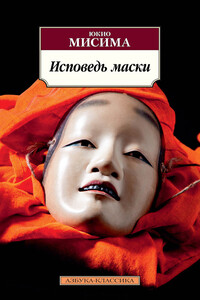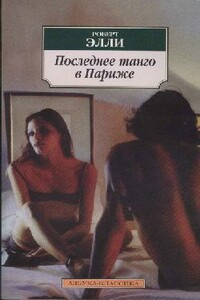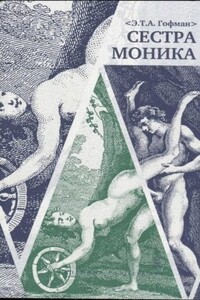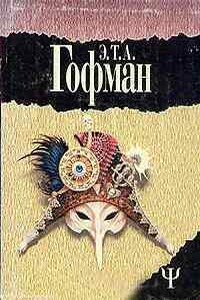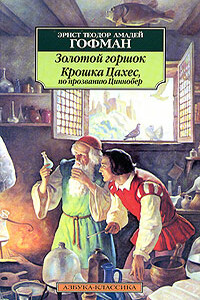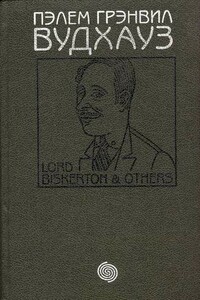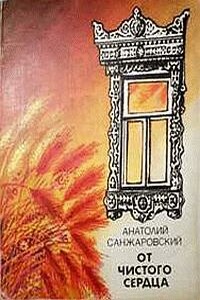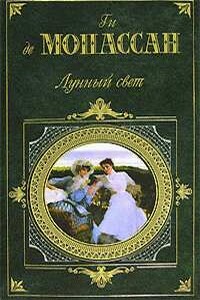Гость Дракулы и другие истории о вампирах | страница 3
Рождение звезды
…Из этого понятия может родиться сюжет, который под пером писателя, богато одаренного фантазией и обладающего поэтическим тактом, способен всколыхнуть то ужасное и таинственное, что живет в глубинах нашей собственной души…
Эрнст Теодор Амадей Гофман[7]
Тот «новый род поэзии», о котором с плохо скрытым сарказмом отзывается во второй части «Фауста» Гете, к 1829 году (когда, собственно, и сочинялась содержащая эти слова сцена имперского маскарада) уже проторил себе путь в различные национальные литературы Европы. Историческая ирония ситуации заключается в том, что его зачинателем сегодня принято считать — и не без основания — именно Гете. Несмотря на многочисленные упоминания в медицинских трактатах и теологических «рассуждениях» XVIII века (к некоторым из них, специально посвященным феномену вампиризма, мы еще обратимся в дальнейшем), в художественную литературу вампирическая тема проникла лишь в конце столетия — благодаря гетевской балладе «Коринфская невеста» (1797, опубл. 1798), заглавная героиня которой возвращается с того света и совершает обряд кровавой инициации, выпивая кровь у своего недавнего жениха. «И покончив с ним, / Я пойду к другим, — / Я должна идти за жизнью вновь!»[8] — этот голодный возглас коринфской вампирши не только обещал медленное угасание ее будущим жертвам, но и возвестил о появлении в европейской словесности нового персонажа, который всего через несколько лет принялся развивать свой литературный успех — теперь уже в лоне английской поэзии. Поэмы «Кристабель» (1798–1799, опубл. 1816) Сэмюэля Тейлора Кольриджа, «Талаба-разрушитель» (1799–1800, опубл. 1801) Роберта Саути и «Гяур» (1813) Джорджа Гордона Байрона внесли известную лепту в вампирический культурный сюжет, и ниже нам еще представится случай о них вспомнить.