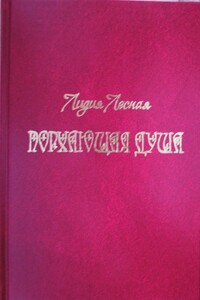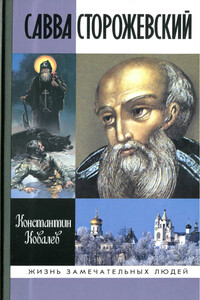Мертвое «да» | страница 45
и заговорил по-немецки как-то мгновенно. По-немецки мгновенно залепетала и моя сестра Алла, с которой немка играла в кубики.
Жизнь пошла по расписанию: вставать, чистить зубы, мыться — не только протирать глаза, гулять, петь, плести коврики из бумажек, лежать после завтрака, опять гулять и петь немецкие песенки.
Рождение младшей сестры Лизы[11] очень упростило поначалу отношения между Тетей и Мартой Яковлевной. Тетя была все время с маленькой, присматривала за кормилицей, шила для нее и купала.
Мои родители были чрезвычайно довольны переменой в детской. Однажды мой отец взял меня за руку и увел в свою уборную, где молча, не предупреждая, в одно мгновение обрезал мне в кружок мои великолепные локоны. Я ахнул, хотел заплакать, но не заплакал, почувствовав холодок и приятную легкость на затылке. Но заплакали мать и Тетя. Тетя опять обнимала и целовала меня в темном коридоре и почему-то быстро оттолкнула от себя, когда в гостиной послышались шаги Марты Яковлевны. А потом я и совсем перестал походить на девочку — мне сшили штаны и белую матроску, форму в которой я проходил до пятнадцатилетнего возраста.
Мать теперь чаще разговаривала с Мартой, как мы называли нашу немку, чем с Тетей, но ведь Тетя была постоянно занята с Лизой. Немка ей чем-то импонировала, м. б., ученостью, моя мать всегда ценила людей с образованием и уважала дипломы. Она советовалась с ней о платьях, о хозяйстве, мы часто засыпали под их разговор.
Последнее лето в Каневе мы мало видели наших родителей. Из Одессы приехали мой брат Борис и Володя, кузен, сын дяди Николая. Им было уже около двадцати лет, в доме гости бывали не переставая, и Марта Яковлевна водила нас только здороваться и прощаться. Мы проходили через столовую, где стол был уставлен хрусталем и серебром, а скатерть покрыта сплошь черными бархатными анютиными глазками. Володя и Борис распоряжались около закусочного стола, и Борис говорил по-французски — по-французски я не понимал, Бориса боялся и стеснялся. Нас быстро уводили, мы засыпали под шум съезжавшихся карет.
Но однажды мне разрешили присутствовать при фейерверке. Это был бедный фейерверк — бураки, свечи, вензеля, но мне он показался ослепительным. В черной ночи сыпались с неба звезды, как настоящие бил звездный фонтан, и я не узнавал нашего сада, озарявшегося, меркнущего, потом опять озарявшегося. Как мне хотелось поскорее стать взрослым, чтобы не есть на клеенке в детской, а в столовой на анютиных глазках и каждый вечер устраивать фейерверки, после которых трудно заснуть — закроешь глаза и видишь золотые фонтаны и пальмы. Нас все же взяли с немкой один раз на «Шевченкову могилу», предварительно объяснив, кто такой был Шевченко. Коляска осталась на берегу, и мы медленно начали подниматься на гору, показавшуюся мне бесконечной. Молодая баба, в украинском костюме, в лентах, карбованцах и монистах показывала нам могилу и провела в хату, в которой висел портрет Шевченко и вышитые ручники по стенам. Отсюда был виден Днепр, рощи и широко открывался противоположный низкий берег, полтавский. Мне кажется, что я тогда был взволнован искренно — не Шевченкой, но сознанием того, что меня привели на могилу поэта; не самой могилой — никогда до этого меня ни на какую могилу не водили, — блеском катившегося внизу Днепра, шелестом тополей вокруг хаты, каким-то особенно легким ветерком на горе. Вряд ли это воспоминание приукрашено, и вряд ли на него осели последующие литературные, впрочем, немногочисленные впечатления.