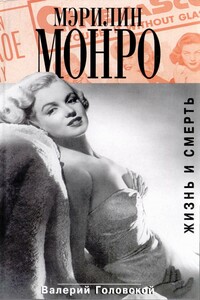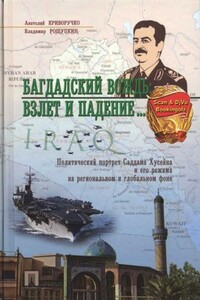Хорошо посидели! | страница 15
— Зачем вы задаете мне эти вопросы? — с печалью в голосе произнес Лев Львович. — Мне не за что вас увольнять. Поэтому я прошу вас подать заявление об уходе по собственному желанию. Этим вы очень облегчите мою задачу.
Лев Львович смотрел на меня жалостным, чуть ли не просящим взглядом. А во мне боролись тяжелые чувства. Я понял — близится развязка. Какие-то силы, вроде отдела кадров и партбюро библиотеки, информированы о моем предстоящем аресте и хотят заблаговременно избавиться от меня, чтобы не оказаться в положении проморгавших врага народа, допустивших его работу, к тому же еще в архиве — в Отделе рукописей, до самого последнего момента. Подать заявление об уходе — означало бы сделать подарок всем этим блюстителям государственной безопасности, каковых в тогдашнем коллективе библиотеки было хоть отбавляй. Кроме того, это означало бы, что я сам чувствую себя в чем-то виноватым, что-то натворившим (навредившим?) и поспешающим удрать с того места, где я совершал свои преступные дела. Ко всему этому примешивалась горечь обиды за незаслуженное изгнание. Вместе с тем, я всей душой сочувствовал Льву Львовичу Ракову. На него жалко было смотреть. Я понимал, что ему очень тяжело в эти минуты. Под него уже шел серьезный подкоп как на основателя и первого директора Музея обороны Ленинграда. Конечно, ни я, ни даже он не могли в тот момент предположить, как обернутся предъявленные ему обвинения и что военный трибунал приговорит его к расстрелу. После четырех дней, проведенных в камере смертников, он узнает о гуманном решении — заменить высшую меру двадцатью пятью годами тюрьмы. Этого мы, конечно, не предвидели. Однако дыхание тюрьмы и лагеря было достаточно ощутимо разлито в ленинградском воздухе того времени. Я понимал, что, подав заявление об уходе по собственному желанию, в какой-то степени облегчу положение Льва Львовича. По крайней мере, избавлю его от тяжкой для него обязанности подписать приказ о моем увольнении под каким-то выдуманным предлогом. Я не забывал о том, сколько доброго успел для меня сделать этот во всех отношениях достойный человек. Словом, искушение — написать «прошение» об уходе по собственному, и будь, что будет — у меня было.
Мы долго молчали. Лев Львович расхаживал по кабинету и в ходе своего внутреннего монолога иногда разводил руками. Я смотрел то на него, то в окно — на людей, снующих вокруг Гостиного двора. Наконец я твердо сказал: нет, такого заявления я не напишу. Собственноручно расписываться в каких-то неведомых мне проступках, или в каком-то своем вредительстве библиотеке — не стану. Мое изгнание из библиотеки я считаю преступлением. И пусть тот, кто его совершит, и понесет за него ответственность. Рано или поздно это случится. А я на роль жертвы, облегчающей убийцам их работу тем, что сама на себя накладывает руки, — не подхожу.