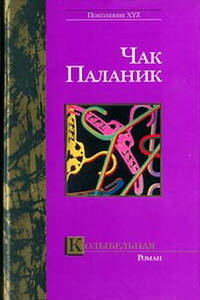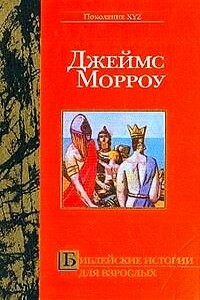Жестяные игрушки | страница 142
Его полосатый шезлонг скрипит, когда он облокачивается на мое плечо и протягивает мне обратно полуулыбающегося Гэмилтона Уокера.
— Держи, — говорит он. — Можешь сказать своим в школе, что отобрал это у секретного агента.
Я беру у него карточку.
— Я думал, это ты заставил его уволиться. Ну, обругавши его.
— Нет. Это ты заставил его уволиться, потому что хотел утопить премьерских детей в аквариуме.
— Да не хотел я, — говорю я ему.
— А я хотел бы, — говорит он. — Туда, к его любимым рыбкам. — Он смеется, выпучив глаза и делая губами движения, как аквариумная рыбка. Изо рта его вырываются негромкие булькающие звуки. Он изображает удивленную аквариумную рыбку. Или тонущего премьерского ребенка. Только мне, побывавшему в аквариуме, совсем не смешно.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Молоко
Он сказал мне примерно так. Моя настоящая мать умерла, когда мне исполнился год, через день после того, как у нее отобрали меня.
Моего отца послало в Кумрегунью какое-то начальство, заявившее, что полукровки должны воспитываться белыми. И сцена там вышла такая, что он только смотрит на меня, хмурясь, когда я спрашиваю об этом. В общем, какая-то душераздирающая сцена, когда ребенка силой отняли у женщины и вручили отцу, не спрашивая, умеет ли он воспитывать детей или хочет ли он этого. Сцена, о которой до сих пор шепчутся мои дядюшки и тетушки.
Короче, меня у нее отобрали, не позволив ей воспитывать меня по-своему, обреченно и бездарно. Не по-белому. Привезли меня в город на коленях у няньки, которая всю дорогу от Кумрегуньи до Джефферсона наставляла отца насчет четырех видов продуктов, абсолютно необходимых для растущего младенца. Готовые завтраки, каши, овощи… и плоть Христова.
На рассвете следующего дня моя мать вышла из-за гигантского эвкалипта, растущего у ворот миссии Кумрегунья, прямо под колеса серебряной молочной цистерны Дукетса, когда та везла свои десять тысяч галлонов еще теплого парного молока с первой фермы Дукетса в Джефферсон.
Грузовик… Штуковина из тех, которыми зарабатывал на жизнь мой отец. Несущаяся очертя голову в город… в котором мы теперь жили оба. Полная молока… детской пищи. Если моя мать сознательно сплела все эти мелкие, полные иронии детали в эти несколько шагов из-за дерева, смерть ее была стихотворением, а сама она — поэтом, равным по мастерству… ну, не знаю кому… кому-нибудь из бессмертных, давно забытых поэтов.
А может, эта молочная цистерна просто была единственной неодолимой силой, пролетавшей мимо Кумрегуньи строго по графику. Была чем-то, что служило у них там чем-то вроде золотого стандарта. Десять тысяч галлонов на скорости шестьдесят миль в час, ровно в пять пятнадцать несущаяся к белым детям Джефферсона и других, более далеких мест. Включая и меня — в то самое первое для меня в этом качестве утро.