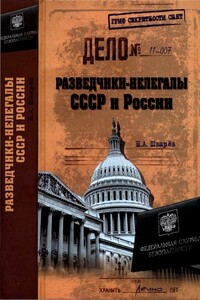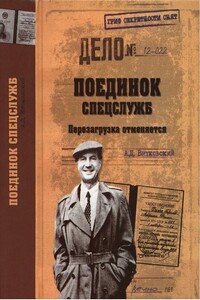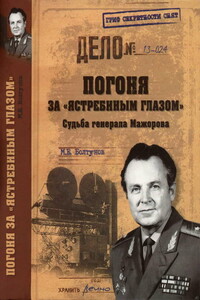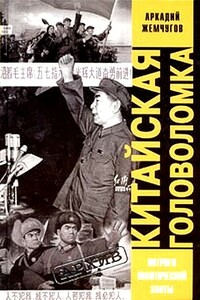Кому мы обязаны «Афганом»? | страница 30
И еще из воспоминаний А. Микояна:
«2-го декабря 1919 г. в Москве начала работу 8-я партийная конференция. Она продолжалась три дня, в течение которых было проведено шесть заседаний… После принятия порядка дня были заслушаны два приветствия. Первым приветствовал конференцию Султан-Галиев от имени 2-го Всероссийского съезда мусульманских коммунистических организаций народов Востока. Коммунисты мусульманских народов, говорил Султан-Галиев, понесут на Восток красное знамя, революционное знамя коммунизма, полученное из рук наших учителей — товарищей русских коммунистов, и разбудят спящий Восток».[34]
Афганцы даже в самом страшном сне не могли представить, чтобы их «знаменем спасения, знаменем борьбы» за независимость, свободу и самобытность стало чужеродное знамя, да еще какое — знамя коммунистов-безбожников! «Большевистское знамя, программа большевизма, образ действий большевиков»!
С тем, чтобы избавить себя от подобной перспективы и не оказаться вовлеченными в борьбу за коммунистический передел мира, они в 1926 г. побудили шурави подписать двусторонний советско-афганский договор «О нейтралитете и взаимном ненападении». Это был четкий, категоричный сигнал Москве о том, что Кабул двумя руками за развитие и углубление дружественных отношений во всех сферах жизнедеятельности, кроме одной — идеологии. «Мы нейтральны, таковыми были, есть и будем. У нас свое, традиционное восприятие мира, и религия наша ислам несовместима с вашим коммунизмом».
Этот посыл пронизывал договор «О нейтралитете и о взаимном ненападении». Ни с одной другой страной такого договора у Афганистана не было.
В Москве, разумеется, поняли позицию афганцев, но ссориться не стали. Там исходили из того, что, как говорят в народе, «всему свое время» или «терпение и труд все перетрут».
Советско-афганское сотрудничество продолжало расширяться и углубляться. В 1928 г. вошла в строй первая воздушная линия по маршруту Москва — Ташкент — Кабул, а в Герате и Мазари-Шерифе открылись советские консульства.
Москва наращивала свое присутствие в Афганистане, а тот старался с помощью северного соседа осовременивать свою страну в надежде поскорее расстаться со средневековой отсталостью и нищетой, сохраняя при этом свою самобытность и, конечно, нейтралитет.
…После афганской миссии Мухаммада Вали-хана в столицу мировой революции пожаловали представители еще одного «проснувшегося народа Востока» — монголов.
Если Афганистан — страна гор, то Монголия — страна степей и пустынь. В мировую историю этот древний народ вписал себя лихими набегами гикающих орд Чингисхана, сумевшего покорить полмира. Заложенная им структура феодального общества просуществовала в первозданном виде семь столетий, пока в 1921 г. не грянула революция и на политической карте мира не появилась Монгольская Народная Республика. Перед ее руководителями встали те же проблемы, что и перед афганцами: как вытащить страну из средневековья? Как поскорее покончить с нищетой и отсталостью? Правда, в отличие от афганцев монголы сподобились на социалистическую революцию.