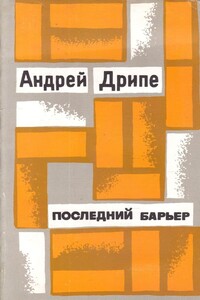Летят наши годы | страница 41
Корнеев, решившись наконец отхлебнуть остывшего чаю, поперхнулся, мучительно покраснел. Ему показалось, что библиотекарша говорит о Поле.
— А теперь опять все меняться начало! — Лукавая усмешка снова осветила сухое подвижное лицо старушки. — Вечером вот домой являюсь, и опять, как раньше: Любовь Михайловна, Любовь Михайловна!
Упрекнув Федора Андреевича за невнимание к чаю, Казанская проворно убрала стаканы, оседлала нос роговыми очками. Массивные, с черными ободьями, они неузнаваемо изменили ее. Сейчас она была похожа на профессоршу из какого-то полузабытого фильма. На миг такое внезапное превращение словно отдалило Корнеева от нее; чопорная сухонькая профессорша холодно блестела стеклами, деловито спрашивала:
— Что же вам дать почитать? Об афазии больше не хотите? Ну и чудесно! — Глаза под стеклами тепло заголубели; возникшее чувство неловкости, отчуждения исчезло у Корнеева так же мгновенно, как и появилось. — Посмотрите вот новинки.
Библиотекарша разложила на столе несколько книжек в скромных бумажных обложках; Корнеев бережно перебирал их, не зная, на какой остановиться. Фамилии многих авторов были ему совершенно незнакомы — за войну он, должно быть, основательно поотстал.
— Самая интересная, по-моему, вот эта — «В окопах Сталинграда». Знаете, как-то очень просто, спокойно. Читаю и все вижу, как там у вас это было. — Казанская вдруг спохватилась, пытливо взглянула на Корнеева. — Может быть, о войне не хотите? Ничего? Тогда советую, талантливой рукой написано!
Корнеев заполнил абонементную карточку, Казанская с интересом начала просматривать ее — о своем новом знакомом она, по сути дела, ничего не знала. Вот она дошла до графы «профессия» — учитель, — в глазах на секунду мелькнуло изумление, потом огорчение. Сдержанно и прямо сказала:
— Да, трудно вам, голубчик.
— «Одиноко!» — вырвалось у Корнеева.
— Вот это уж нет! — живо возразила Любовь Михайловна. — Да разве человек может быть одиноким? А люди? — Секунду, колеблясь, старушка пытливо смотрела на Федора Андреевича и, заметив, что он взялся за карандаш, прикрыла блокнот узкой рукой, словно убеждая не спорить. — Когда-то я потеряла всех, кто у меня был, осталась одна. И мне тоже показалось — никому не нужна. А спасли меня люди. У вас, конечно, все это острее, больнее, у меня — давнее. Так давно это было, что иногда кажется: а было ли?
Корнеев нерешительно повертел карандаш и положил его; Казанская загляделась в окно, и когда ее взгляд снова остановился на Федоре Андреевиче, лицо ее по-прежнему было спокойным.