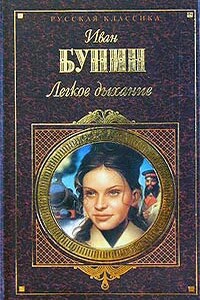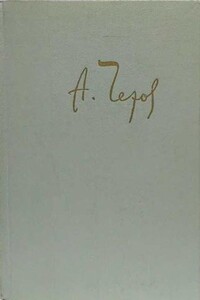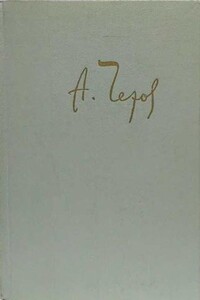Том 4. Рассказы для больших | страница 28
Художник решил, что пора поговорить о себе.
— Я вам рассказывал, как я в Париже забыл название своего отеля?
— Если вы расскажете, будет в четвертый раз.
Курсистка поправила:
— В третий.
— Ну, не надо… Я не люблю крепкого чая, Ольга Львовна.
— Я не вам наливаю, — докторша передала стакан лаборанту.
Луцкий насупился, достал с подоконника спрятанную среди груды неразвернутых газет книжку, отвернулся от докторши и решительно послюнил палец.
Докторша перетасовала набухшую, тридцатилетнюю колоду и разложила «Наполеонову могилу». Не вышло. В «Северном сиянии» последняя десятка попала под короля, и пасьянс опять лопнул. Только испытанный друг, старый «Гран-пасьянс» утешил (правда, не обошлось без маленького плутовства). Облегчилась и вспомнила:
— Господа, кто хочет простокваши?
Спросила три раза и ответила сама себе:
— Никто не хочет? Ну, и не надо… Аннушка, отнесите Марсу! Что же все молчат?
Тишина.
— Странное прилежание! Павел Николаевич, что вы там читаете?
— Книжку.
— Миленький ответ!.. Та-та-та, дорогой мой; вы взяли мою «Вторую жену»! Извольте отдать!
— Я сейчас кончу.
— Как «сейчас», когда у вас больше половины осталось? Как вы смели взять? Вчера кричал, что Марлитт могут читать только совершенно неинтеллигентные люди, а сам… Давайте сюда!
— Не отдам!
— А, так… Ну, посмотрим!
Художнику подставляли ноги, стулья, но он, прижимая «Вторую жену» к груди, летал кругом стола, как сумасшедший. За ним — докторша.
Звякали стаканы, дрожал пол, лампа судорожно мигала. Было очень весело, но докторша разгневалась и устала.
— Это насилие! Фу…
— Голубушка, Ольга Львовна, дайте дочитать…
— Да ведь «неинтересно» же?
— Ей-богу интересно, изумительно интересно.
— Ага! Ну, черт с вами, стащили — так кончайте.
Опять тишина.
Лаборант принес восемь толстых книг; тоскливо перелистывая их, пил чай, хотя не хотелось, и упорно не уходил в свою комнату, где бы ему никто не мешал. В записной книжке было подробно размечено по неделям все, что он должен был сделать за лето; но каждый вечер, пугливо пробегая свои заметки, он испытывал ту тоскливо-щемяще-сосущую спазму в сердце, которую простой народ зовет угрызениями совести.
Почистил ногти, посмотрел на остальных, виновато вздохнул и стал набивать папиросы.
Курсистка читала про себя, по-детски шевеля губами:
«In diesem „mir gegeben“ liegt unmittelbar… der Gegensatz zwischen mir, dem etwas gegeben ist und… demjenigen, was mir gegeben ist»[2].
Читала, понимала все слова, но не понимала ни слова и т. д.