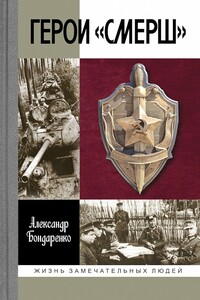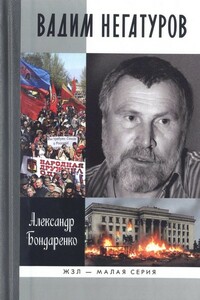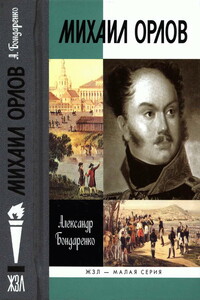Денис Давыдов | страница 60
Далее все завершилось более чем благополучно. Мало того что взамен утраченной шинели князь Петр Иванович отдал Давыдову свою кавказскую бурку — не в ней ли изображен он на лубочных картинках времен Отечественной войны? — Багратион еще и представил Дениса к награде.
По счастью, государь не таил на Давыдова зла — или опять Нарышкина словечко замолвила, а может, благодаря заботе князя Багратиона, в ту пору еще близкого ко двору, — и в апреле того же 1807 года он получил рескрипт о награждении его орденом Святого Владимира 4-й степени. В рескрипте заслуги Дениса расписаны были весьма красочно: «…вы посланы были с приказанием под картечными выстрелами, убита под вами лошадь и захвачены вы были в плен, но отбиты казаками…»[111]
Снова приходит сравнение с опальным поэтом Лермонтовым, которого Николай I несколько раз вычеркивал из списков награжденных за реальные дела.
А вот Денису повезло — другое царствование, и уже после первого боя он стал владимирским кавалером…
Так чем же было вызвано его лихорадочное стремление сразу ввязаться в бой, тут же совершить немыслимый подвиг? Горячей страстностью и азартом его натуры? Желанием сравняться с «пропахшими жженым порохом» однополчанами? Не без того. Но есть, пожалуй, и еще один момент: соответствие личности автора и его «лирического героя». Вся армия знала стихи Давыдова:
Мог ли их автор быть не то чтобы трусом — о том и речи не идет, но человеком, скажем так, заурядной, обычной храбрости? Нет! Без всякого сомнения, это должен быть герой из ряда вон — даже среди отчаянных гусар. Потому Давыдов должен был произвести впечатление не только на своих товарищей-гвардейцев, героев Аустерлица, но и сделать так, чтобы его боевая слава дошла до недавних сослуживцев-белорусцев, чтобы она, как и его стихи, гремела по всей армии. Пожалуй, впервые так получалось, что лирический герой стал управлять автором — впоследствии подобное будет происходить не раз, история литературы сохранила немало тому примеров…
Вернемся в 1807 год. Через день после стычки при Вольфсдорфе Давыдову довелось участвовать уже в большом сражении при Прейсиш-Эйлау — 26 и 27 января. В своих воспоминаниях он сравнивает это сражение с Бородином, где сам он, кстати, не был: