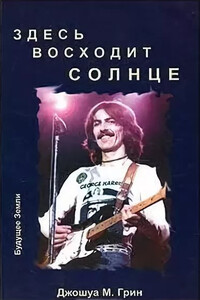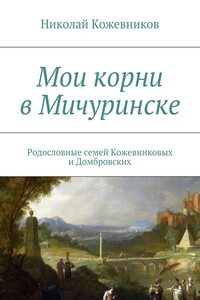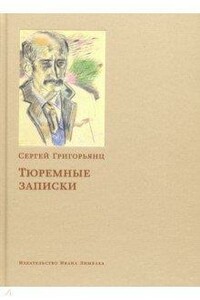Третья рота | страница 10
Потом снова всё в тумане. Я прорываюсь сквозь него на Золотом руднике, где отец работал строителем.
Мы идём по полю. Отец и мать идут быстро и одновременно поднимают меня за руки вверх, и мне так весело и так хорошо, что, когда они опускают меня на землю, я умоляю их снова поднимать меня вверх… Это впечатление полёта так захватывало, что я весь замирал от счастья и мне казалось, что я — птица… Долго меня то поднимали вверх, то опускали вниз, и я то радовался, то огорчался. А потом отец переступил через канаву с левой стороны дороги, протянул руку к вербе, зелёной и стройной, и сорвал с неё… вареник с вишнями.
Вареник был очень вкусный, сочный и сладкий.
Мне был год от роду.
Я потом часто просил отца пойти со мной к этой вербе за варениками.
Но отец почему-то всё отказывался.
Я катаюсь с сыном инженера в деревянном ящике на колёсиках. Я пассажир, а он — лошадь. Но вот ящик остановился — «лошадь» решила отдохнуть. Я стал подниматься, но тут «лошадь» дёрнула… И меня больно стукнуло подбородком об острый край ящика… Я плачу, кровь заливает мне шею и грудь…
Мы едим селёдку. И вдруг что-то острое и колючее застревает у меня в горле… Я подавился костью от селёдки, и мать, бледная-пребледная, с чёрными расширившимися зрачками, пальцем вытаскивает кость из моего горла… Я страшно ору…
Мать спасла мне жизнь.
Потом я долго не мог есть селёдку.
Это тоже было на Золотом руднике.
А это — на Брянском. Туман уже исчез. Я разговаривал только по-русски, был горд и самолюбив, жесток и нежен, капризен и влюбчив. Любил передразнивать мою тётку Клаву, которая вечно вертелась перед зеркалом, любил показывать ей за спиной язык, не понимая, что она всё видит в зеркало. Долго ломал голову: как это она видит спиной, потому что тётка жаловалась на меня матери, и она за это била меня.
Мне очень нравилось, когда одна из подруг матери, смуглая и красивая, брала меня на колени. От неё так приятно пахло, и была она такая уютная и хорошая.
Мне уже пять лет. Я даже был «великодержавным шовинистом» и называл отцова двоюродного брата, который приезжал к нам из Третьей Роты погостить, и его отца, папиного дядю, нехорошим словом, когда мать просила меня поцеловать их.
А дядька и дед были бородатые, в кожухах и грязных сапогах, они дымили вонючим табаком, были рослые, длинноусые и плевали на ковёр, хотя мама и не позволяла этого делать, а они, наоборот, когда она говорила, что так делать не следует, — смачно, с наслаждением плевали, харкали и растирали гадость своими смазанными дёгтем сапожищами.