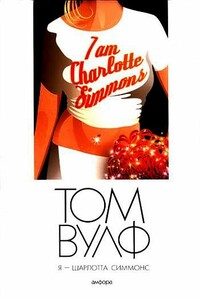Лето в Бадене | страница 8
Длинный список «евреев-литературоведов, ставших почти монополистами в изучении творческого наследия Достоевского», выстроенный Цыпкиным, начинается с талантливого и, пожалуй, самого выдающегося из них Леонида Гроссмана (1888―1965). Его труды — важный источник биографических построений Цыпкина. Еще одна книга, которая помимо «Дневника» названа в начале романа — результат научной работы Гроссмана. Он подготовил первое издание «Воспоминаний А. Г. Достоевской», которое вышло в свет через семь лет после ее смерти, в 1925 году. Цыпкин предполагает, что в этой книге нет упоминаний «о жидочках на лестнице» и прочих подобных выражений, возможно, потому, что «Воспоминания» написаны вдовой накануне революции, «может быть, даже уже после знакомства с Леонидом Гроссманом».
Цыпкин, по-видимому, знал такие значительные исследования Гроссмана, как «Бальзак и Достоевский» (1914) и «Библиотека Достоевского по неизданным материалам» (1919). Вряд ли он прошел мимо повести «Рулетенбург» (1932) — фантазии на полях романа об игорной страсти (как известно, «Игрок» сперва именно так и назывался). Но одну книгу Гроссмана Цыпкин вряд ли читал, поскольку она была фактически изъята из обращения. «Исповедь одного еврея» (1924) — это история жизни одновременно самого необычного и самого жалкого из еврейских поклонников Достоевского, Аркадия Ковнера (1842―1909), уроженца виленского гетто, с которым Достоевский вступил в переписку. Безрассудный самоучка Ковнер поддался чарам писательского таланта и, прочитав «Преступление и наказание», пошел на воровство, чтобы помочь больной бедной девушке, в которую был влюблен. В 1877 году осужденный на четыре года каторги, накануне этапа в Сибирь, Ковнер написал Достоевскому из камеры в Бутырской тюрьме, обвинив его в ненависти к евреям (за первым письмом последовало и второе — о бессмертии души).
Тема антисемитизма Достоевского выплескивается на страницы «Лета в Бадене», едва Цыпкин прибывает в Ленинград, но разрешения этому мучительному вопросу нет и в конце романа: «<…> мне казалось до неправдоподобия странным», что Достоевский «не нашел ни одного слова в защиту или в оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, — <…> — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, <…> — и к этому „племени“ принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы». Но все это не мешало евреям любить Достоевского. Почему?