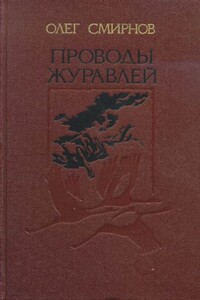Проводы журавлей | страница 38
А дубов окрест скудно, оттого что — северная граница их распространения. Да и не такие они, как южнее, — невысокие здесь, корявые, стелющиеся. Но так же стойки в невзгодах: осколками сечет, а дубки живут. Хоть и безрукие…
Дубок остался позади. Защетинился тальник. Затем стали попадаться островки иван-чая, цветка пустырей, запустенья, пепелищ. Днем он лиловый, привычный, ночью — темный, непонятный. Ну как это понять: растет одинокий, незащищенный на нейтральной полосе, подвластной перекрестному, губительному огню? Растет себе…
Данилов полз неустанно. А Воронков не выдерживал этого безостановочного движения, начал выдыхаться. Но подстегивало самолюбие, злость подстегивала: не отставай, слабак, доходяга, пацан сопливый. Сам же напросился на эту охоту. Никто не тащил за воротник из своих траншей. Валялся бы в землянке на нарах, попивал бы чаек. Напросился — потому не пикни. И считай: не у тебя мозжит незажившая рана на голени. Ползи! Глотай пот и ползи!
Воронков не ощущал времени: оно будто никогда не начиналось и никогда не кончится, оно — вечно. И он будто ползет в этой неподвижной вечности. Он с д ы х а л и едва не подал голоса, чтобы снайпер притормозил. И в этот, чуть было не ставший постыдным для него момент Воронков заметил впереди и сбоку какую-то мрачную глыбу и радостно догадался: «оппель-адмирал», наконец-то, будь ты неладен!
Автомобиль маячил на равнинке, левей, и Данилов с Воронковым выбрались из лощины, напрямую поползли к нему, там, где простреливалось с обеих сторон: ненароком можно схлопотать очередь и от своих. Если б она была. Свои постреливали через час по чайной ложке да и то лишь из винтовок, пулеметы на этом участке покуда не работали. Зато МГ не простаивали без работы: трассирующие очереди просвистывали близехонько — этот немецкий тяжелый пулемет никогда не доставлял нам приятных минут.
Теперь Воронков пахал землю носом, как и Данилов, вероятно, — потому что снайпер пополз медленней, совершенно не поднимая головы. У чахлого кустика тот замер, едва заметно взмахнул рукой, подзывая к себе. Воронков подполз, запаленно дыша. Данилов прошептал:
— Сейчас самое опасное… Кругом болотцы, к машине один проход… вон по тому гребню, однако… Гляди во-он туда!
Воронков напряг зрение: да, точно, к автомобилю ведет узкий, как лезвие, гребешок. Он ответно прошептал:
— Вижу…
— Ползем по нему как можно быстрей… Изо всех сил! Ну?
— Не отстану…
— За мной!
Данилов полз по гребню юрко и споро. И Воронков — действительно, изо всех, из последних сил — рванул за ним, накалывая руки и обдирая колени. Они успели проскочить гребешок, когда в него впились, чмокая, разрывные пули. Воронков не мог знать, засекли их фрицы или стреляли просто так, наугад, но с облегчением отдулся: все-таки смерть была близка, а главное — заползли в укрытие, в яму под днищем «оппеля», и не надо было двигаться. Можно было отдышаться, отойти.