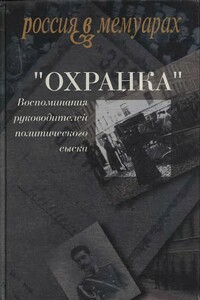«Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. Том 1 | страница 28
И вот офицеры армии, несведущие в делах, которые они были призваны разрешать с момента их включения в состав «политической полиции», оказывались как бы перед стеной, и то, что подготовлялось, таилось за ней и просачивалось иногда наружу, они не могли ни усвоить, ни правильно оценить - не потому, что они были сплошь «тупицы» или «продувные жулики», как полагал Локкарт, а потому, что тогдашняя государственная система, основанная на «нерассуждающей» дисциплине и дворянских предрассудках, мешала той живой и инициативной работе, которая требуется от политической полиции. Эта система, хотя значительно ослабленная и ре-
Poccuir^^e мемуарах
формированная, продолжала, к сожалению, оставаться и значительно позднее.
В тихое и спокойное время царствования Николая I эта система помешала руководителям политической полиции подготовить чинов Отдельного корпуса жандармов к их сложной и ответственной работе. Надобность в такой работе возникла скоро. Наступили смутные времена со слишком быстрым и внезапным потоком освободите, ьных реформ Императора Александра II. Для поддержания в огромной стране порядка в царствование Императора Александра II власть обладала ничтожной по силе и вооружению общей полицией и еще более ничтожной политической полицией.
Оценивая политическую полицию 70-х годов, известный бывший] народоволец Лев Тихомиров в своих записках об эпохе «Земли и воли» писал: «…Третье отделение находилось (в 1878 г.) в слабом и дезорганизованном состоянии, и трудно себе представить более дрянную политическую полицию, чем была тогда. Собственно, для заговорщиков следовало бы беречь такую полицию; при ней можно было бы, имея серьезный план переворота, натворить чудес…»>11
Лев Тихомиров правильно оценивает политическую полицию к концу царствования Александра II. А ведь к этому времени российская политическая полиция в лице Отдельного корпуса жандармов имела за собой 50 лет практики.
Одновременно я хочу привести здесь мнение о политической полиции той же эпохи, т.е. примерно 60-х и 70-х годов, советского историографа А. Шилова: «Мною было указано на низкий уровень агентов политической полиции и на то, что их донесения не выходили из пределов данных “наружного наблюдения ’ или сообщений о “толках и слухах”. Никакой “внутренней агентуры”, дававшей впоследствии столько ценных для охраны сведений, не существовало. Данные “наружного наблюдения”, “толки и слухи”, перлюстрация писем, материалы, получаемые при обысках, и “откровенные показания” раскаявшегося или доведенного какими-либо мерами до “раскаяния” допрашиваемого - вот чем располагало Третье отделение в начале 1860 г.»