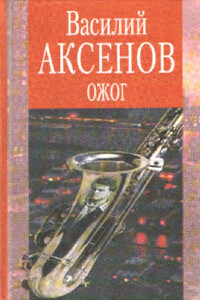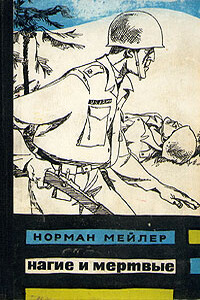Третья мировая Баси Соломоновны | страница 45
А после иначе себе и не позволял.
— Здравствуйте, Иван Николаевич…
На мгновение даже приостановился, поклонился, с некоторым значением. В точности как отец. И, что есть мочи, рванул. В спасительный полумрак подъезда. За непробиваемый, словно в стальную кирасу одетый, родительский корпус. Во все лопатки. То есть опять же — точь-в-точь как отец. Лопатки вместе, а грудь немного вперед, словно у птицы.
Тщательно и неторопливо.
И никаких тебе — через ступеньку.
Презрительно попирая серый бетон лестничного пролета.
Втыкая легко, даже чутко микропорку, как кошки — в склон ледника.
Нет, нет — никаких кошек. И не лед. Скорее — скользкий дворцовый мрамор.
Или даже — напротив того! — теплый и разноцветный, редких пород древесины наборный куртаг. Игривая круговерть маркетри.
Пламя люстр, канделябров, бра, тысячесвечно, хрустально, зеркально плещущееся в ослепляющем лаке.
Нет, нет, нет — никакой это не бал. И ты вовсе не тайный советник Каренин, и не Вронский, кавалергард.
Ты себе поднимаешься по серой лестнице хрущевской пятиэтажки. Городской низкорослый еврей, из отряда Passeriformes, то есть попросту — из воробьиных. Птица певчая, семейства врановых, по-латыни — corvidae. Неподражаемый по обучаемости имитатор.
Страх рябит и бликует предприпадочным блеском, эпилептическим бредом в глазах у тебя.
Вот сейчас, сейчас, — дайте мгновение! — что-то грянет промеж лопаток, пройдет через грудь, и — навылет…
И потому, чтобы никто не заметил, ты выносишь вверх, как бы небрежно, но чутко, позвонок к позвонку, упругую старорежимность, корсетную дерзость осанки. На несминаемой временем пояснице. На треугольной твердыне крестца.
Право, если задуматься, что же еще может статься прочнее и проще треугольника.
Или — того более! — двух, переплетенных крестообразно, один с другим?
Он обронил как-то — насмешливо и между прочим — как всегда, когда хотел сказать самое важное:
— Даже если придется из ямы карабкаться — спину держи, словно нисходишь. — Помолчал и тихо переспросил: — Ты понял?
Дома, не разуваясь, я прошел и сел на кухне. Как садятся на кухне взрослые, вернувшиеся с похорон. На табуретку. Между столом и раковиной. К буфету лицом. Косточкой локтя зацепившись за край столешницы. Без единой мысли. Сгорбившись. Если бы курил — закурил бы, бездумно стряхивая в раковину левой. На той кухне все было под рукой.
Он зашел:
— Матери не обязательно знать. Не проболтайся — смотри! Я скажу — ты поскользнулся и сел в глину. Сними ботинки. Пойду — вымочу, суну на батарею. — До ванной не дошел, вернулся. Стал за спиной и, как свой своего, странно по-деловому, хоть и несколько вскользь, спросил: — Почему ты не выстрелил?..