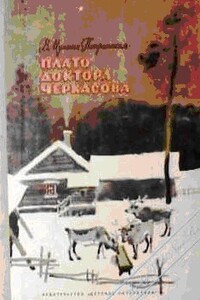На ладони судьбы: Я рассказываю о своей жизни | страница 66
Боюсь, что тогда в рваной, заплата на заплате, телогрейке и широченных ватных штанах, будто с какого-то огромного «запорожца», я скорее походила на огородное пугало, нежели на «артистку с Невского». До сих пор не понимаю, что его так взбесило?
На разнарядке он как-то говорил обо мне: «Мухина как та лошадь, на которую где сядешь, там и слезешь».
Я сумела установить для начальства такое неписаное правило: если хотели, чтобы я хорошо работала, то должны были предварительно узнать, нравится ли мне эта работа. Иначе толка от меня не жди. А рабочей силы в совхозе МВД остро не хватало. Заключенных было много — шли этапы за этапом, но работы было еще больше. Поэтому правило соблюдалось, что очень раздражало Бабина. Он никак не мог понять, по какому принципу я «выбираю» себе работу. Часто я просила то, чего другие боялись, куда посылали порой в наказание или чтоб вынудить дать взятку. Например, зимой, в январскую стужу, я шла рубить караганник для топлива.
— На караганник захотела? — гремел начальник участка, разнося провинившегося. — Смотри у меня, живо попадешь!..
А для меня это было высшей радостью. Радость начиналась, едва скрывались за холмом наши безобразные бараки, колючая проволока, огромный портрет Сталина, прикрепленный как вывеска над правлением лагучастка. Во всем этом было что-то бесстыдно-отвратительное.
Караганник стелился по заснеженным долинам, между замерзших озер. Озера вытянулись цепью по руслу пересохшей реки. Никогда я потом не видела такого огромного неба, такой чистой и глубокой синевы, таких летящих облаков. И такая светлая была здесь тишина… Однажды, в сильный мороз, я видела четыре солнца. А летом как-то был мираж — прозрачное парусное судно, наверное, с Аральского моря. Какие интересные откровенные беседы велись на караганнике! А если не хотелось даже говорить, можно было отойти далеко от всех и думать. Или прижаться к груди земли и немножко поплакать.
Я безумно тосковала по маме, сестре, брату, тете Ксении, своим друзьям, по воле, по любимой работе. По счастью, мне не пришлось узнать измены: друзья писали письма, для «конспирации» подписывались: «дядя Миша», «тетя Муська» и даже «твой дедушка Борис». А «дедушке» — всего двадцать семь лет. Он был когда-то в меня влюблен.
Конечно, было тяжело, особенно зимой, когда мы перемерзали, недоедали и недосыпали. Мы безмерно уставали, но понимали, что на фронте еще тяжелее. Но это мы понимали «умом», а в глубине души считали, что в тюрьме хуже. Все просились на фронт. И как отчаянно мы завидовали тем, кого призывали в армию.