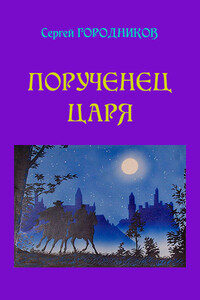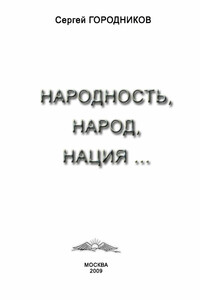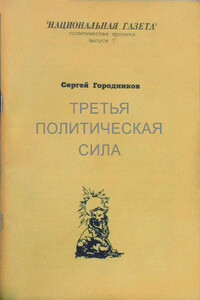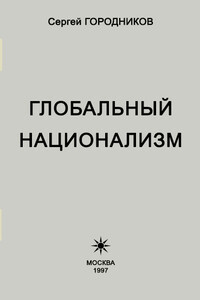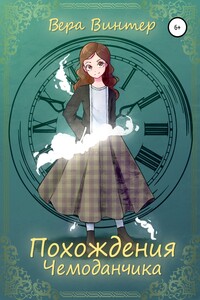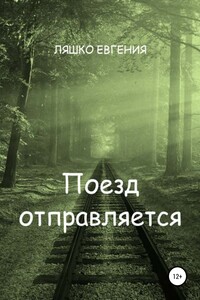Порученец царя. Персиянка | страница 53
Князь Иван Семёнович Прозоровский был в это время в том состоянии внешней вялости и упадка духа, когда внутри зарождается, зреет и вызревает невидимая снаружи буря страстей, способная даже зрелого летами и жизненным опытом мужчину, как бы вдруг, толкнуть на самые безрассудные, самые разрушительные поступки. Такие поступки, когда сжигаются все мосты для отступления. И вызревать этой буре чувств было с чего.
Получить назначение на воеводство в Астрахань было не просто. Богатый торговый город, важный по своему пограничному расположению и по суммам доходов, которые собирались в государеву казну, за два-три года управления в нём предоставлял возможности при умном ведении дел составить достойное состояние на всю дальнейшую жизнь. Немаловажными были и прочие следствия – после удачного завершения астраханского воеводства неизменно шло повышение, как по служебной лестнице, так и в положении при царском дворе. И князю пришлось прибегнуть к вмешательству влиятельных, представленных в боярстве родственников, чтобы добиться-таки этого назначения.
Но ему не повезло. Он не учёл, что государство внешними событиями втягивалось в Большую войну в Восточной Европе. Развитие военного противоборства с Польшей и Швецией вынуждало правительство в Москве самым решительным образом предотвращать поводы, какие дали бы Турции оправдания разорвать договорённости о перемирных годах и выступить на юге России с военными действиями. Никогда ещё царское правительство не делало таких суровых предупреждений донским казакам, прекратить разбойные грабежи турецких галер и прибрежных городов оттоманской империи. И оно не просто предупреждало, а впервые за сотни лет направило в низовья Дона надёжные стрелецкие и солдатские полки с приказом намертво запереть выходы в Азовское и Чёрное море.
Непривычное к такому вмешательству Москвы, да ещё и в защиту извечных врагов, турок и зависимых от них крымских татар, донское казачество заволновалось. Однако под влиянием семей зажиточных старшин не решилось выступить против царя, который лишал большинство донцов возможности добывать необходимые средства к выживанию. Поощряемые укоренёнными обычаями, преданиями и песнями, вдохновляемые на разбойные промыслы сказочными примерами древнерусских князей Олега и Святослава, малоимущие донцы всем разгульным и разудалым товариществом хлынули на Низ Волги, увлекая за собой и сородичей из украинских слобод. Кое-как устроившись возле Астрахани, они занялось на побережьях Хвалынского моря тем же, чем занималось с незапамятных веков на море Чёрном. А именно, принялись совершать челночные набеги повсюду, где только подворачивалась к тому возможность, обкладывая малые нерусские города и селения, морскую торговлю своей собственной данью. И даже ринулись в Персию, двинулись к столице шаха с требованием выдать земли для поселения, чтобы было где укрыться в случае опасного столкновения с царской Москвой. У занятого внутренними распрями шаха всё же достало сил отказать в землях, но отогнать казачьи челны и струги от побережий он был не в состоянии. Когда же казаки обрели чудо-вождя в Степане Разине, то уже открыто повели себя хозяевами низовий Волги и Хвалынского моря, к ним потянулись бесшабашные удальцы со всей Руси, и справиться с ними стало невозможно ни Персии, ни московскому правительству.