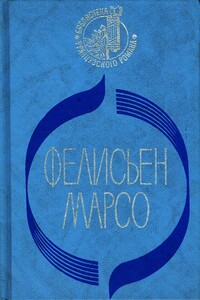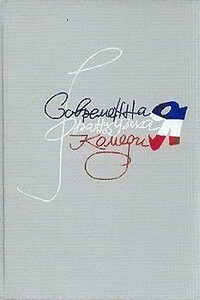Кризи | страница 26
Так я сказал Кризи на следующий день. А в тот момент мне просто не хватило присутствия духа. Я говорю Колетт: «Ничего страшного». Я говорю в трубку: «Ничего страшного». И опять слышу голос Кризи, ее неотчетливый голос: «Ты не понимаешь, ты не можешь понять». И мягко, как тогда ночью, когда, уходя, я укрыл ее простыней и одеялом, я вешаю трубку. Я говорю: «Ошиблись номером». Бетти уже продолжает прерванный разговор. Колетт пребывает в некотором недоумении. На лице ее мужа застыла саркастическая улыбка. Которая, впрочем, ни о чем не говорит. Он напускает на себя саркастический вид даже тогда, когда сообщает, что на улице хорошая погода. Я, мол, не дам себя провести. Как же он меня раздражает. Взять хотя бы его манеру приветствовать людей своей трубкой.
Именно по таким вот мельчайшим черточкам и нужно судить о людях. Он говорит, что пора идти спать. Колетт возражает. «Пойдемте к Брошу». Только одна она, судя по всему, почувствовала, что между нами пролетел ангел, что он — все еще здесь, между широкими кремовыми диванами, что между ним и мной нужно что-нибудь бросить, неважно что, пусть хотя бы просто час, проведенный в ночном ресторане. Перед уходом я иду к себе в кабинет, набираю телефон Кризи: никто не отвечает. Мы приезжаем к Брошу. Входим в большую черную и низкую коробку, в густой полумрак, где вращающиеся прожектора смешивают светло-желтые, голубые и фиолетовые лучи, входим в эту коробку, наполненную гамом, в эту похлебку из шумов, где на площадке для танцев колышется и ходит ходуном бесформенная масса, совсем как машины на площади. С трех сторон большие зеркала, которые тоже кажутся черными и отбрасывают черные блики, создавая такой эффект, что ты уже не понимаешь, где находишься, и уже не знаешь, где заканчиваются эти люди, эти столы, эти низкие лампы, висящие в полумраке. Какая-то толстая женщина, которую я никогда прежде не видел, целует меня, говорит мне, что я мужчина ее мечты, что моя речь о вотуме недоверия была безупречна, ну просто ее мысли, ведет нас к столу, усаживает меня нога к ноге рядом с пышной блондинкой, которая жутким и откровенным взглядом, в котором все легко угадывается, мгновенно взвешивает меня и оценивает. У нее большие голубые и холодные глаза. Под этим циклопическим взглядом я чувствую себя, как бриллиант под лупой скупщика краденого. Но я не бриллиант. И циклопический взгляд скользит дальше. Он скользит по Колетт, соскальзывает с него еще быстрее. Муж Колетт явно осуждает это. Он осуждает все: пышную блондинку, вспышки прожекторов, бесформенную массу на площадке и вообще всю эту совокупность общества потребления. Однако Колетт оказалась права. В этом шуме, в этом звонком полумраке, под завывание саксофона моя тревога утихает, рассеивается. Этот неясный гул меня убаюкивает. Но тут происходит следующее: в середине черной деревянной рамы, отделяющей зал от бара и расположенной чуть выше остальных дверных проемов, оттого что бар находится на возвышении, в свете фиолетовой вспышки я вдруг увидел Кризи. Я увидел ее дерзкую улыбку, ее вскинутую головку, ее сверкающий взгляд. Прожектор скользнул дальше. Я опять не вижу ничего, кроме теней. Прожектор возвращается, останавливается. Управляющий им человек, вероятно, узнал Кризи: прожектор больше не двигается. И в оркестре грохочет большой барабан, которому аккомпанируют цимбалы.