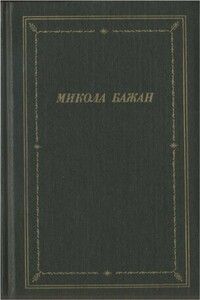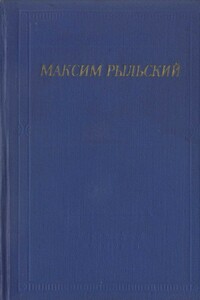Стихотворения и поэмы | страница 35
Он много ездит, его зарубежные маршруты опоясывают «земшар»; но все сильней и больней в эти последние годы тянет его на «малую родину», в заастраханские Килинчи. Луконин едет в Астрахань (теперь там есть улица его имени). Из Астрахани отправляется в степь. Впервые в зрелой жизни он видит дом, где родился. С помощью стариков он разыскивает могилу своего отца, Кузьмы Ефимовича. Ставит надгробие. Луконин не успевает написать об этом стихи. Но этот выход на «собственные следы», этот «возврат к началу», эта, лучше сказать, «очная ставка» с собственной судьбой имеет для него огромное внутреннее значение. Острее всего чувствуешь, когда читаешь последние стихи Луконина, — это стремление связать концы и начала в своей судьбе.
Тридцать лет спустя после Победы он попадает в Берлин. Ищет места, которые помнит по маю 1945-го. За десятилетия те мгновенья не отдалились. Наоборот, приблизились. Луконинская душа и по природе-то не склонна ничего упускать, отбрасывать, забывать; в ней все застревает — навечно. Из всех «возвратов» самым прочным оказывается возврат к солдатской поре, из всех «ностальгий» — фронтовая. Нужно вжиться в странную, уникальную, трагическую логику этой тоски. Обыденное сознание может понять тоску по утерянному раю, ностальгию по безоблачным дням. Но тоска по смертному испытанию! Не счастье просит вернуть — беды и горести!
Вслед за Лукониным в семидесятые годы к этому мотиву один за другим выходят поэты «узлового поколения». Календарно им не так уж и много: за пятьдесят. Реально же, по внутренним «часам» пережитого, они знают другие сроки и, как к последнему бою, начинают готовиться к последнему часу. И С. Наровчатов все ближе к строчке: «Сходить с огромной сцены пора приходит нам». И у М. Дудина: «Кончается наша дорога…», и Е. Винокуров: «Наконец почувствовал: прошла…», и Б. Слуцкий, автор «Неоконченных споров», и Д. Самойлов, автор «Вести», и К. Ваншенкин, автор «Дорожного знака», и С. Орлов, автор книги «Костры», вышедшей уже посмертно, — все это варианты последнего горького раздумья: о близкой смерти.
Борис Слуцкий смотрит в бездну с отчаянной решимостью. Иллюзий никаких: там пустота, мгла, черная яма, сизая муть, отсутствие всего — абсурд. В яростном самосмирении Слуцкого перед законом, которому подчинено бытие, есть что-то от ветхозаветных пророков. Пригнуть себя, подчинить закону все бренное в себе. Мысль о делах, что будут продолжены, о памяти, что останется, помогает скрутить себя Слуцкому-рационалисту, но личность поэта не может примириться с ощущением конца и финала — личность бьется на краю, сгорая от трезвой ясности, от горькой ясности сознания.