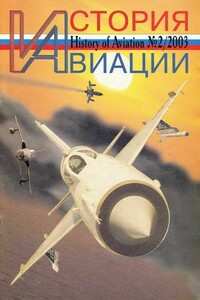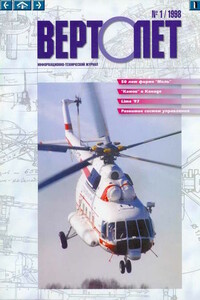История Авиации 2003 05 | страница 66
[2] Вообще-то перед тем, как начать вдаваться в подробности при описании хода боевых действий, принято хотя бы в общих чертах описывать сложившуюся к рассматриваемому периоду обстановку на ТВД и, соответственно, причины, вызвавшие те или иные нововведения. Ничуть не претендуя на истину в последней инстанции, редакция журнала предложила бы читателем следующий вариант начала этой части статьи:
«Весной 1951 г. линия фронта под напором полуторамиллионной группировки «китайских народных добровольцев» откатилась за 38- го параллель. Ещё зимой китайские и северокорейские войска вошли в Сеул, что стало болезненной утратой для американского командования, перед которым снова, как и летом прошлого года замаячила угроза поражения. Однако в ходе развернувшейся за столицу Южной Кореи череды атак и контратак успех всё же в конечном итоге сопутствовал «южанам», которые при поддержке американской авиации смогли вернуть город. В конечном итоге линия фронта стабилизировалась на берегах реки Ханган севернее Сеула. По большому счёту, стабилизация линии фронта произошла по причине выхода северокорейских и китайских войск из-под зонтика, который им обеспечивали МиГ-15. Достаточно прочно обеспечивая прикрытие тыловых районов, пилоты перехватчиков даже с подвесными топливными баками практически не могли действовать над линией фронта, господство в воздухе в районе которой безраздельно принадлежало американской авиации. Ответом на хаос, охвативший дороги Северной Кореи, стало создание армии носильщиков, доставлявших к линии фронта все необходимые для деятельности войск грузы на своих спинах. Хотя отряды «кули» также несли потери от налётов штурмовой авиации противника, парализовать движение этих человеческих ручейков с севера на юг не удавалось никогда. По этой причине задача уничтожения мостов и центров складирования предметов снабжения на берегах Ялудзяна вновь выдвигалась в число первоочередных. Однако к этому времени появление практически любых самолётов сил ООН в образовавшейся над Ялуцзяном «аллее МиГов» стало смертельно опасно.». (Далее см. авторский текст).
[3] Хотя члены редколлегии «Истории Авиации» имеют немало претензий к коммунистам, однако в данном случае должны заметить, что подобные оценки событий полностью подпадают под бессмертное ленинское определение «буржуазного ревизионизма», являющегося типичным образчиком западного мировоззрения и оценки собственных действий, встретивших противодействие и не достигших поставленных целей. В самом деле, попробуем проанализировать поставленные задачи. Основных из них было две: во-первых, стояла задача поражения двух мостов, а во вторых — проверка эффективности истребительного прикрытия. Заметим, что по данным наших советников, ни один из мостов разрушен не был. Конечно, причин у промаха могло быть много (например, внезапно изменившееся направление ветра). А что же действия эскорта? Здесь также не всё в порядке. Заметим, что численность сил воздушного противника почти во всех отчётах, как наших, так и американских, английских, немецких, итальянских, японских и пр. всегда, как правило, по различным причинам завышается. Но допустим даже, что «МиГов» действительно было 30. Тогда встаёт вопрос: сколько было «Сейбров»? Предположим (для круглого счёта), что 12, т. е. одна эскадрилья, хотя могло быть и две. Получается, что наряд истребителей прикрытия, численно превосходящий атакующие силы противника минимум вдвое, на самом деле не смог отбить нападение! Но, может быть собственные потери были незначительными? Скажем сразу, что двух мнений здесь быть не может, так как, согласно принятому в американских ВВС способу оценки собственных потерь, считается, что приемлемым было бы нанесение противнику в три раза большего ущерба (см., например, В.К.Бабич. «Авиация в локальных войнах», Москва, 1988 г., с.184–185). Очевидно, что при стоимости одного В-29 свыше 600 тыс. долл., адекватной компенсацией за сбитый бомбардировщик мог быть уничтоженный мост стоимостью примерно в 2 млн. долл. Таким образом, практически с любой точки зрения данный налёт закончился полным провалом.