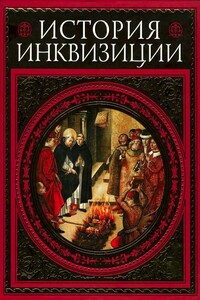Возникновение и устройство инквизиции | страница 48
Если церковь не решалась еще проливать кровь, то она уже не стеснялась прибегать ко всем другим средствам, чтобы доставить торжество установленной религии. В начале V века св. Иоанн Златоуст учит, что ересь должна быть подавляема, что на уста еретиков должно быть накладываемо молчание, что они должны быть поставлены в такое положение, чтобы не могли совращать других, и что, наконец, их тайные сборища нельзя допускать; но при всем том он добавляет, что к еретикам не следует применять смертную казнь. Около того же времени св. Августин умоляет префекта Африки не предавать донатистов смертной казни; ибо, говорит он, если будут преследования, то ни один священник не решится выдать донатиста, так как он предпочтет умереть сам, чем быть причиной смерти другого. Однако Августин одобрил императорские законы, согласно которым донатисты изгонялись, подвергались штрафам, лишались церквей и права делать духовные завещания.
Мало-помалу все сомнения были устранены, и люди нашли доводы, чтобы дать свободу своей ненависти и злобе. Через шестьдесят два года после казни Присциллиана и его единомышленников, вызвавшей такое содрогание, папа Лев I, когда ересь снова проявилась в 447 году, не только одобрил действия тирана Максима, но даже объявил, что если сохранять жизнь последователям подобной, достойной осуждения, ереси, то это будет нарушением Божеских и человеческих законов. Таким образом, решительный шаг был сделан.
Эволюции, поворотные пункты которой мы отмечаем, в значительной степени благоприятствовала ответственность, которая падала на церковь вследствие ее тесных связей с государством. Когда она могла добиться от монарха издания указов, осуждающих еретиков на изгнание, ссылку, каторгу и смерть, она думала, что Бог дал в ее руки силу, которой отнюдь не следует пренебрегать. Св. Исидор Севильский ясно формулировал это правило, сказав, что долг князей не только в том, чтобы быть самим верными церкви, но и в том, чтобы поддерживать веру в ее чистоте, применяя к еретикам все доступные средства. Печальные результаты этого учения, постоянно повторяемого, проходят красной нитью через всю средневековую историю церкви. Ереси уничтожались одна за другой без всякого снисхождения, включительно до костра, который был принят на Константинопольском соборе, при патриархе Михаиле Оксисте, как мера наказания для сторонников секты богомолов.
Нужно, однако, сказать, что и сами еретики, когда им представлялся к этому случай, также применяли приемы своих противников. Стоит вспомнить преследования католиков вандалами-арийцами в Африке при Гензерихе; а когда Гуннерих наследовал Гензериху и император Зенон отверг его предложения относительно взаимной веротерпимости, король вандалов перешел все, даже самые ужасные пределы. Преследовались арианами верные церкви католики и в Аквитании при Эврихе, короле визиготском (правил в 467–485 годах). Но все же нужно сказать, что вообще ариане давали достойный подражания пример веротерпимости. Обращение их в католичество также отмечено лишь немногими случаями жестокости. Французские Меровинги, по-видимому, никогда не преследовали своих подданных ариан, которых было много в Бургундии и Аквитании; обращение их происходило последовательно и, судя по всему, мирным путем.