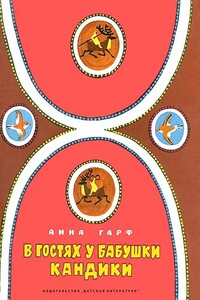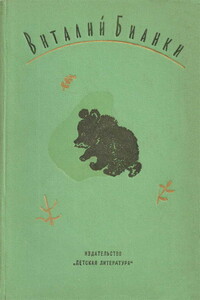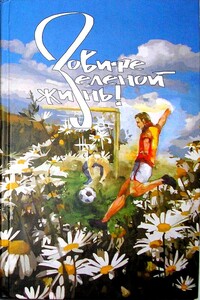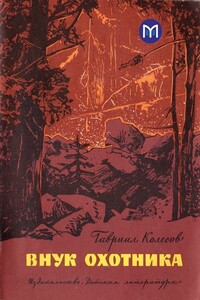Кожаные башмаки | страница 21
— Я пошёл в поле, — говорит Зуфер. — И ты, Миргасим, приходи. Ребята обещали после комбайна колоски подобрать. Придёшь?
Лицо Миргасима скрылось под полями шляпы.
— Должно быть, приду, — вздыхает он, — только поем сначала. И немножко погуляю… Совсем-совсем немного!
Ласково взяла бабушка Миргасима за руку, подвела его к широкой сэке[3]. Тут на горке разноцветных подушек белел холщовый фартук, точно такой, как у брата Зуфера, только поменьше.
— Это тебе мама сшила, — сказала бабушка. — А это вот сестрёнка Шакире связала. — И бабушка протянула Миргасиму красные шерстяные носки.
Пока Миргасим любовался подарками, бабушка подошла к своему зелёному сундуку, подняла обитую медными полосами крышку.
С внутренней стороны крышка обклеена картинками: пароходы, корабли, лодки, баржи.
Бабушка родилась на Волге, и до сих пор она всё скучает по широкой, большой воде. Где увидит картинку с кораблём, обязательно спрячет, положит в сундук или приклеит к крышке. Пока Миргасим рассматривал корабли, бабушка вытащила из сундука шубу покойного дедушки, валенки, жилетку, потом свой старинный бархатный казакин и маленькую круглую, шитую серебром бархатную шапочку-калфак… Но вот лукаво улыбнулась, подержала в руке небольшой свёрток и снова спрятала его поглубже.
— Бабушка, почему прячешь? Что там, в узле?
— Пелёнки, дружок мой, твои пелёнки.
— Зачем тебе старые пелёнки?
— Старые, стираные да в щёлоке кипячённые помягче новых.
— Но тебе-то они на что?
— Берегу для детей твоих, Миргасим. Когда вырастешь, женишься, меня, может, здесь уже и не будет. А пойдут детки, возьмёте эти пелёнки и бабушку вспомните… Льняные они, сама пряла, мягкие…
— Почему тебя не будет? Куда пойдёшь? Плохо тебе с нами жить, что ли?
Ничего не ответила бабушка, только вздохнула. Потом улыбнулась и достала с самого дна сундука кожаные жёлтые башмаки, дохнула на них, обмахнула концом своего белого фартука и вдруг поставила к босым, загорелым ногам внука:
— Носи на здоровье.
У Миргасима никогда в жизни не было башмаков. Летом он ходил босой, как все ребята, осенью — в шерстяных носках с галошами, зимой носил валенки. Но башмаки!..
Он поднял башмаки, прижал их к щеке, понюхал.
— Как хорошо пахнет! Будто они дёгтем смазаны, как колёса у телеги, верно, бабушка?
— Ошибаешься, дитя моё, они смазаны ваксой. Запах и правда хороший, мне тоже нравится. Береги эти башмаки. Шил их твой дедушка. Был он лучший сапожник в нашей деревне, а может, и в целом свете. Даже из города Казани приезжали к нему господа большие, просили сапоги пошить. И вот случилось однажды, и самого в Казань повезли: начальниковой дочке кривые ноги сапогами выправить. И что ты думаешь? Сделал ведь! Голенища цветами-птицами выстрочил, подошва на подушечках, мягкая — залюбуешься. Там, в городе, и познакомились мы. Твой дедушка тогда молодой был. Как хорошо он пел… Бывало, подойдёт к моему окну и затянет протяжно жалобную песню. А я спрячусь за занавеску, стою молчу, в окно и не выгляну. Но дедушка твой был человек упорный. Оборвёт протяжную песню, заведёт насмешливую, да такую, что сил не станет молчать и поневоле ответишь на песню песней. Вот один старик седой, купец богатый, услыхал и послал родителям моим подарки — серебряный самовар, красный ковёр. Было у этого старика три жены — захотел четвёртую. Сказали моему отцу: «Будет дочь твоя есть сахар и мёд, ходить в шёлковом платье, носить красные сапожки». Старик много денег за меня давал. Кто в старое время девушку спрашивал: «Хочешь — не хочешь?», продавали, как овцу. Если бы не твой дедушка, пропала бы я совсем. Ночью пришёл он к моему окну, просит: «Спой мне, о чём думаешь… Спой в последний раз». И вот я запела…