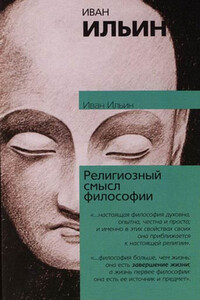Свет во тьме | страница 8
Если бы было сказано в прошедшем времени: «свет воссиял во тьме», то все было бы просто и понятно: среди тьмы зажегся источник света — где была раньше тьма, там теперь сияет свет. Так, другой евангелист, сообщая о пребывании и проповеди Иисуса в «Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых», вспоминает при этом «реченное через пророка Исаию»:
«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в страхе и тени смертной воссиял свет» (Исаия 9, 1—2. Ев. Матв. 4, 13, 16 [3]). Но евангелист Иоанн хочет сказать другое: он говорит не об однажды совершившемся во времени событии, что среди глубокой тьмы воссиял свет. Он говорит о некоем вечном — или, скажем скромнее, длительном — метафизическом состоянии или отношении между светом и тьмой, которое он выражает в словах «свет во тьме светит». Но как это может быть? Поскольку мы руководимся аналогией с физическим светом, мы должны сказать: где есть свет, там нет тьмы, и где есть тьма, там нет света. Одно состояние исключает другое. Естественно представлять себе, что свет, раз воссияв, изгоняет тьму, озаряя ее, т. е. заменяя ее собою, светом. С другой стороны, можно себе представить в каком–то фигуральном смысле, что свет, зажженный среди тьмы, например, свеча в темную и бурную осеннюю ночь, может потухнуть, как бы уступив превозмогающему его напору тьмы.
Впрочем, остается возможность — кажется, единственная здесь возможность, — все же рационально и наглядно представить себе состояние, которое можно было бы обозначить как «свет во тьме». Так в темную, безлунную, но звездную ночь звезды, как точки света, сияют «во тьме». Такими же точками света среди тьмы представляются нам, если глядеть издалека, фонари, зажженные в темную ночь. И даже вблизи свет слабый, еле мерцающий, например свет маленького фонаря, мог бы светить, не озаряя ничего, кроме ничтожного по размерам ближайшего к нему пространства, и оставаясь, следовательно, окруженным густою тьмой, рассеять которую он не в силах.
Но евангелист, говоря о свете, светящем во тьме, и тем самым исключая два первых состояния — свет, озаряющий и рассеивающий тьму, и тьму, тушащую свет, — имеет вместе с тем в виду нечто совсем иное, чем упомянутую третью возможность. Вспомним, что свет, о котором он повествует, есть «свет истинный» (φώσάληθινόν — «подлинный» свет), свет, исходящий от Бога, — тот свет божественного Логоса, через который сам мир «начал быть». Поэтому не может быть и речи о том, чтобы этот свет лишь слабо мерцал и именно по своей собственной, внутренней слабости был не в состоянии разогнать тьму и озарить мир. И все же этот не только неугасимый, но по своему имманентному метафизическому существу безмерно могущественный, т. е. всемогущий — ибо божественный — свет осужден в мире светить