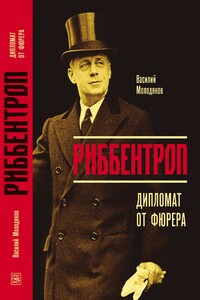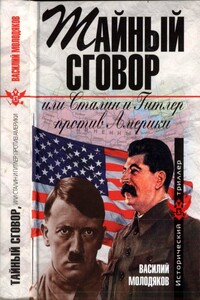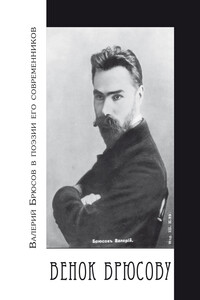Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио | страница 17
Коноэ нападал на нынешний «пацифизм» США и Великобритании так же решительно, как и на их прежний «беллицизм», в обоих случаях уличая их в лицемерии. Другим объектом его критики стал «экономический империализм». В первом он видел не идеализм и не стремление к защите мира, но лишь прикрытие для второго, для торговой и финансовой экспансии. Он требовал действительного равенства возможностей для всех мировых держав, потому что существование неравенства неизбежно приведет к новой мировой войне – раньше или позже. И не дай Бог, это станет судьбой Японии, как стало судьбой Германии в 1914 г. От прямого декларирования последнего вывода Коноэ воздержался, но его легко прочитать между строк статьи, написанной непосредственно перед мирной конференцией – как совет и предупреждение ей.
Эссе Коноэ была перепечатано в сборнике его статей 1936 г., когда он считался наиболее перспективным политиком Японии и самым вероятным кандидатом в премьер-министры. Это, конечно, не случайно. Биограф принца Ё. Ока резюмировал: «Мы не знаем, когда и под чьим влиянием Коноэ сформулировал позиции, нашедшие отражение в его эссе. Но убеждения, провозглашенные здесь 27-летним Коноэ, остались практически неизменными. Они особенно важны, потому что продолжали влиять на всю его дальнейшую политическую карьеру».[28]
Обладавший острым умом, молодой Коноэ чувствовал, как творцы нового мирового порядка в упоении победы сжимают пружину. Она сжималась легко, поэтому сжали ее сильно, как только могли. Но чем сильнее сжимаешь пружину, тем сильнее она потом разжимается.
Вчитываясь в территориальные статьи Версальского и прочих «мирных» договоров, видишь сценарий всех будущих европейских конфликтов. Писали об этом немало, но в основном рассматривали проблемы порознь. Мы же пробежимся «галопом по Европам», по ее новой карте, нарисованной под руководством Андре Тардье.[29]
Почему именно он стал главным «картографом», понятно. Из членов «большой тройки» (США-Великобритания-Франция) Вильсона, гордо отказавшегося от репараций, аннексий и контрибуций, более всего занимали «моральные» вопросы, включая «искоренение тевтонского милитаризма», то есть, в переводе на язык практической политики, экономическое и политическое ослабление Германии, а также «верность обязательствам», то есть получение военных долгов с союзников, на уплату которых должны были пойти предназначенные им репарации с побежденных. Иными словами, деньги из Берлина текли в Париж, а оттуда почти сразу же в Вашингтон.