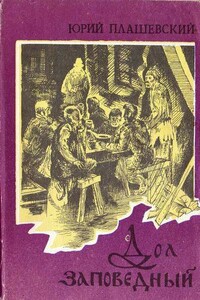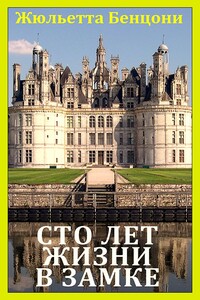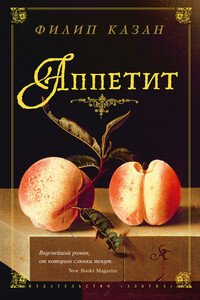Огненный стрежень | страница 94
— А почему вы так решительно сказали, что Николай знал?
— Знал. Все знал и все презирал. А к концу и ненавидел. Не верил никому в придачу. Да и кому верить-то было? Все его ближайшие помощники ничтожества прямые были, либо того хуже.
— А ведь это, Федор Михайлович, одиночество страшное вы изобразили.
— А оно и было, одиночество. Тиран ведь всегда одинок. И страх был. Постоянный, осязаемый, хоть и глубоко запрятанный. И чувство тщеты, и крушения, и напрасности, и последнего даже прибежища — силы. И обнаружилось все это — в степени ужасающей, и жалко, и с укором язвящим и бесплодным в минуты последние. Я последние эти минуты его и вообразить себе боюсь.
6
Одного помещика тульского убили в шесть утра. В Петербурге, в собственном доме, дворовые. Убивали камердинер да писарь. Истязал их барин без отдыху, они и сговорились. Топором по голове. Убив, явились в полицию. С повинной. Одному семнадцать лет, другому двадцать. Мальчики.
Мигает, дрожит ночник. Мечутся по углам тени. Ворочается на железной кровати Николай, дышит тяжело. Жар глаза туманит. Наверно, тогда простыл, когда в Михайловском манеже смотр баталионам был, что в Севастополь шли. Пробрало до костей.
Помельче уж народ был в манеже, не то что раньше. Не то что, скажем, прошлогодние рекруты, что ему тогда в Иорданском коридоре дворца представлялись. Молодец к молодцу. Сам размечал новых по гвардейским полкам. Кого куда. Мелом каждому на спине номер, полк.
Да как вкусно скрипел мел по сукну…
…Прошло… В соседней комнате храп. Дежурят, мол, у одра болящего. Все формалисты. Как сам он.
Как тот мерзавец — комендант, которого он чуть не убил своим криком. А осматривавших, что любопытствовали изображениями севастопольских фортов в Инженерном замке, так и не нашли. Крамольное тотчас разыщут, а шпионов — погоди. С улицы привел, сукин сын, комендант. Похвастался, показал.
Глаза выпучил на него тогда. Обомлел от страха. Виноват, шепчет, виноват. Таковы-то они все. А лучше нет.
А дошло до того, что шагай хоть в пропасть — ни один подлец слова не скажет. И как? Сколько лет армию холили, растили, молились, а под Евпаторией в решительный час в пушках — по одному заряду. Поражение, бегство, срам.
Нет, никто слова не вымолвит ему поперек, хоть кто б и видел, что шаг занесен над бездной. Шагай! Он и шагнул.
Никто не мог. О холуях говорить нечего. Он их создал? Так. Но и они его. Да, да, господа.
Николай ворочался беспокойно и чувствовал, что мысли его все более мешаются, утрачивая присущую им всегда — так он думал — стройность.