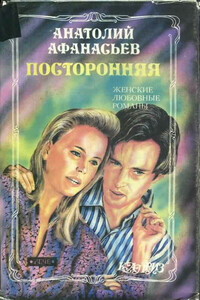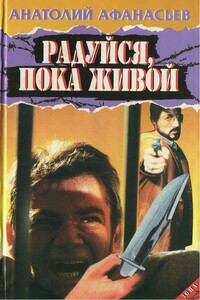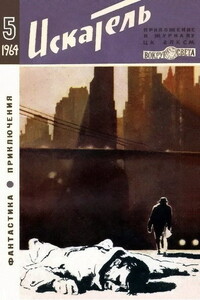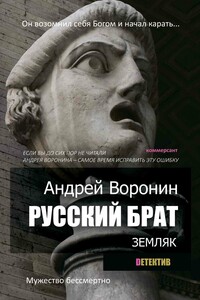Зона номер три | страница 67
С младенчества, с зоревых годков тягали Савелия по врачам, по ведунам — никакого толку. Никто не брался лечить. Колдуны и вещие старухи в один голос твердили: никакой болезни нет, а есть Божий промысел, с которым человеческому разуму не управиться. Врачи, которые в Бога не верили, а черта не боялись, уклончиво советовали спровадить Савелушку в Москву, в хороший госпиталь, где на каждого убогого найдется управа. Ни Охметьев, ни Настена на это не решились. Видели, как при упоминании о Москве у тихого дитяти взгляд каменел, чернел, будто на светлую головку осыпалось тяжкое проклятие.
С годами окончательно привыкли к такому, какой он был, и другого уже не хотели. Тем более что преимуществ от незаметного Савелушкиного бытования было много. Известие об нем далеко шагнуло по свету, приезжали поглядеть на него интересные люди, и не с пустыми руками, да и жители окрестных мест заворачивали с богатыми гостинцами, как к святому привратнику. Слава шла не пустая, осмысленная. Настена скоро заметила, что кто бы из людей ни беседовал с Савелием, ему делалось значительно легче на душе. Ей самой отлучаться от сына на лишний часок было все равно, что нож в сердце воткнуть. Не говоря уж про звеньевого. Охметьев был крепким человеком, перелопатил по жизни столько работы, сколько лишь крестьянину по плечу, но в последние годы сплоховал. Сперва нога отнялась, охромел, после сосуд какой-то в спине лопнул, только и мочи осталось — нести стакан ко рту. Глушил по-черному, а когда просветлялся, одна радость была — перекинуться словцом с Савелием.
…С восемьдесят пятого года, когда лукавый явился, навестил Русь, Савелий изменился — и далеко не в лучшую сторону. Каким-то нервным стал, чересчур восприимчивым. Спал худо и голосом охрип. Чаще выходил на двор, иной раз вовсе без нужды. По дому суетился, чего-то искал, копошился по углам. Смеялся редко, а больше постанывал, словно зуб ему рвали. Настена закручинилась, и тут надобно сказать несколько слов о ней.
Была она женщина неприхотливой судьбы. С тех пор как над ней Васька Щуп снасильничал и зачал ей малютку, она будто навсегда сосредоточилась на какой-то горькой мысли. События, люди, годы, работа, смех и печаль — все мимо текло, не задевая души. Была она чаще угрюмая, чем общительная, но недоброй ее никто бы не назвал. Она была никакая. Соседи всегда приближались к ней с осторожностью, как к человеку, которому открыт иной мир, не тот, который видят остальные. Можно было взять у нее дрожжец в долг, но смешно было справляться о здоровье. Кто провел с ней неподалеку долгие годы, тот вряд ли восстановил бы в памяти хоть несколько слов, оброненных ею. Еще, конечно, отпугивало людей ее перекошенное туловище и безымянный взгляд. Трудно говорить с женщиной, которая смотрит в сторону, и при этом в очах у нее плывут облака. Народ избегает уродцев, хотя втайне заискивает перед ними, угадывая в их присутствии загробную тайну. Зато всякая живность — собаки, кошки, коровы, овцы, птицы, шмели — тянулись к ней, благоговели перед ней, и был случай, когда бешеный волк, бедой промчавшийся по деревне, прыгнул на ее двор, к ее ногам, как к матери-спасительнице, срыгнул наземь белую пену — и блаженно сдох.