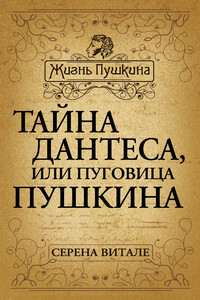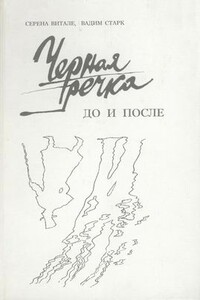Пуговица Пушкина | страница 67
Вяземский был хорошим поэтом, умным критиком, замечательным собеседником и автором писем; известным, тщеславным завоевателем женских сердец, интеллектуальным человеком, всегда резким, иногда жестоким. Никогда ни от чего не приходя в волнение, он смотрел на мир с ясным разочарованием. Он сравнивал себя с термометром, который регистрирует температурные изменения немедленно и с максимальной точностью, — бесполезным инструментом, замечал он, «в месте, где вещества кипят или замораживаются случайно, где на это не обращают внимания и никакие приборы не нужны». Его записные книжки — частные дневники и забавные хроники мыльных опер, прошлых и настоящих — регистрируют резкие и внезапные колебания моральной температуры России в дотошных деталях. Например: «„Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом (род пушки. — Прим. ред.)“, — говорила Екатерина II какому-то генералу. „Разница большая, — отвечал он, — сейчас доложу вашему величеству. Вот изволите видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе“. — „А, теперь понимаю“, — сказала императрица».
Пушкин любил истории о Петре, Елизавете, Екатерине и Павле. Он собирал анекдоты об их ежедневных привычках, недостатках, слабостях, комических сторонах, причудах характера и их остротах — обо всех свойствах людей, уже окруженных ореолом легенды. Он наслаждался неподражаемым «изяществом истории» бесед с Натальей Кирилловной Загряжской, отдаленной родственницей, которой было за восемьдесят, и посвятил этому главу незаконченных «Table talk»[24]: «Орлов был в душе цареубийцей, это было у него как бы дурной привычкой. Я встретилась с ним в Дрездене, в загородном саду. Он сел подле меня на лавочке. Мы разговорились о Павле I. „Что за урод! Как это его терпят?“ — Ах, батюшка, да что же ты прикажешь делать? ведь не задушить же его? — „А почему же нет, матушка?“ — Как? и ты согласился бы, чтобы дочь твоя Анна Алексеевна вмешалась в это дело? — „Не только согласился бы, а был бы очень тому рад“. Вот каков был человек!» Так живая история говорила живыми голосами стариков и старух, которые задержались причудливыми реликтами в новом столетии. Так осуществлялась связь между поколениями, сохраняемая все еще надежными воспоминаниями почтенных свидетелей. Таков был «le néant du passé», своего рода запасной путь для такой страны — в России всегда есть опасность с ее врожденной тенденцией полностью стирать прошлое и строить новое на пепелище.