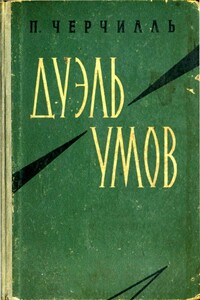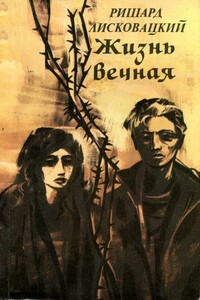Лёшка | страница 9
А что, если взять и разрисовать все заборы и стены призывами: «К оружию, товарищи! Смерть немецким оккупантам!» Села и задумалась. Ну призовет она к оружию. А что толку? Где ее призывники возьмут его? Нет, звать к оружию, не имея оружия, смешно. Лучше она вот что сделает: просто расклеит по городу листовки, в которых опишет все, что сама видела и о чем от других слышала. Листовки, а не мел, вот ее оружие!
Она собрала, сколько было, чистые тетради в линейку и клеточку и пошла к Сене. Сеня умный, Сеня голова! Вместе они так распишут зверства фашистов, что самому Гитлеру икнется!
Он даже не открыл ей, хотя она постучала, как еще в школе условились: дважды не спеша, и трижды быстро-быстро. Тогда, разозлившись, она загремела без всяких условностей, и он, стоя за дверью, жалким голосом спросил:
— Кто там?
— Это я, — отозвалась она, не скрывая гнева, — Нина Сагайдак. Открой!
До этого, она знала, ему и в голову не приходило ослушаться ее. Верилось, не ослушается и сейчас, откроет. Но она ошиблась. Он не открыл.
— Я не могу… Я боюсь… — сказал он, и нашелся: — Мама не велела.
Но Нина уже все поняла. Он не мамы боялся. Он ее боялся.
…— Теперь всему конец! — сказал он Нине, когда они встретились после прихода немцев.
— Не конец, а начало, — сказала она, — начало борьбы…
Его губы, тонкие и обидчивые, скривились в усмешке.
— Борьба… Какая борьба? — он смотрел на Нину, как на сумасшедшую. — Немцы на Москву идут, и нам всем смерть!
— Лучше умереть в борьбе, чем… — начала она, но он перебил ее:
— Лучше самому от себя умереть, чем от других. Борьба… Какая борьба? — Он приподнял занавеску на окне и горько засмеялся: — Против кого борьба?
По улице, люто рыча, слоноподобные, шли танки.
…Нина зло пнула дверь и ушла. А на другой день утром он сам прибежал к ней. Бледный как мел, не сел — рухнул на табурет и одними губами, без слов, проговорил:
— Маму арестовали!
Нина опешила. Сенина мама, тихая, застенчивая и безответная, меньше всего походила на тех, кого мог опасаться Гитлер. Но вспомнила про аптеку и подумала, что судить так преждевременно. Что, если налет на аптеку был совершен не без ее участия и фашисты проведали это?
Сеня плакал, а она ходила возле, как наседка, не знающая, чем помочь цыпленку. И вдруг решилась.
— Сиди у нас и жди меня, — сказала она и, наскоро одевшись, в мамином платке, наброшенном на голову, выскользнула из дома.
Она не шла — летела, пугая встречных тревогой, написанной у нее на лице. Сама же не замечала никого и ничего. Только один образ стоял у нее перед глазами. Образ старика: седого, усатого и прямого, как палка. Его звали Иван Степанович. Он еще в гражданскую был партизаном и, случалось, бывал у них на сборах. Она до сих пор помнит, как волшебно звенели у него на груди ордена и медали. Он почему-то не ушел от немцев и остался в городе. То ли не успел, то ли счел старость и давность былого гарантией от преследования. Но не мог же он, не мог, внушала себе Нина, не знать дороги к партизанам…