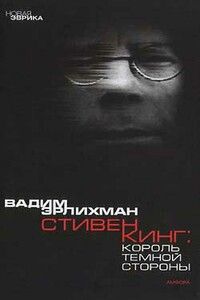Голодный ген | страница 65
В середине XX столетия Карл фон Фриш, Конрад Лоренц и Николас Тинберген, бихевиористы, изучавшие поведение животных, показали, что врожденные инстинкты могут быть до некоторой степени видоизменены при помощи простых программ и подпрограмм, жестко вмонтированных в психику и находящихся за пределами контроля сознания, — физиолог Б. Ф. Скиннер назвал их «атомами поведения». Однако у многих подобные идеи вызывали неприятие — особенно применительно к человеку. Наиболее резко противились «биологизации» ученые, занимавшиеся социальными проблемами. Гарвардский биолог Эдвард Уилсон, который опубликовал в 1975 г. фундаментальный труд «Социобиология», посвященный взаимосвязи генетики и поведения, подвергся массированной критике. Основная мысль его оппонентов заключалось в том, что если инстинкты животных действительно могут отчасти наследоваться, то уж поведение людей практически полностью формируется культурой.
С Уилсоном спорили серьезные и уважаемые ученые, выдающиеся исследователи, его коллеги по Гарварду, и у них была веская причина бить тревогу. Утверждение о наличии у человека неизменных особенностей, определяющих развитие интеллекта или, скажем, склонность к преступному поведению, таило в себе малоприятные идеологические последствия. Оно вольно или невольно приводило к рационалистическому оправданию расизма, половой дискриминации, ксенофобии и евгеники. Артур Кестлер, замечательный писатель и мыслитель, отмечал: «Попытка свести сложные процессы жизнедеятельности человека к гипотетическим „атомам поведения“, пусть даже существование их доказано на низших млекопитающих, мало что дает — точно так же химический анализ кирпичей и известкового раствора почти ничего не скажет нам об архитектуре здания». Поиски основ человеческого поведения в сфере чистой органики представлялись многим и многим непростительной вульгаризацией.
Тем временем исследователи, занимающиеся проблемами ожирения, старались держаться в стороне от дебатов, сохраняя политическую корректность. Ответ на вопрос, есть или не есть, лежал, как им представлялось, скорее в области психологии, и действия каждого отдельного индивидуума могли быть подвергнуты психологической коррекции. Став очевидцем научного переворота в вопросе взаимосвязи природы и процессов питания, который происходил в Кембридже, Лейбл не принял участия в горячих дискуссиях, кипевших вокруг. Убежденный либерал, он не сомневался в способности людей самостоятельно формировать собственную судьбу, каким бы ни было генетическое наследие. Но опыт клинициста подсказывал: кощунство это или нет, но пищевое поведение человека имеет и биологическую подоплеку, подобно другим физиологическим параметрам, например артериальному давлению или частоте сердечных сокращений. Лейблу казалось странным отрицать наличие причин биологического толка в развитии тучности. Почему, когда речь заходит об ожирении, чуть ли не все становятся виталистами, удивлялся он.