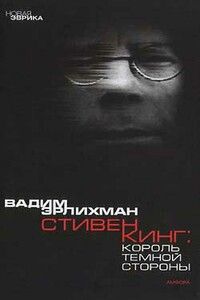Голодный ген | страница 60
Кембридж, штат Массачусетс, по праву славен своими знаменитыми учебными заведениями.[22] Но за пределами священных академических стен город страдает от урбанистических бед. От бедности и ее последствий. Убогое жилье, скученность, распространение наркотиков, семейные склоки, жестокое обращение с детьми, высокий уровень преступности. Будучи руководителем одного из местных органов здравоохранения, Портер организовал в городе службу патронажных медсестер. Они посещали школы, проводили вакцинацию, консультировали беременных девочек-подростков и пожилых, потрепанных жизнью матерей, обучали уходу за новорожденными и, что очень важно, принимали вызовы на дом. Кроме английского, им приходилось говорить на португальском, гаитийском креольском (креолизованном французском), испанском и китайском языках.
Лейбл был глубоко этим всем потрясен. Как заместитель заведующего отделением педиатрии Кембриджской городской больницы он работал над проблемами питания и всеобщей иммунизации и участвовал в подготовке и внедрении одной из первых национальных программ для женщин, детей и новорожденных. В отличие от многих коллег, Лейбл питал отнюдь не сиюминутный интерес к вопросам питания, ибо достоверно знал о пагубном воздействии недоедания на здоровье. Еще в ранних исследовательских работах Лейбл указывал на тревожную связь между низким содержанием железа в организме и трудностями с учебой у детей. Его поразило то негативное влияние, которое оказывал на мозг даже самый незначительный дефицит питательного микроэлемента. Руди совершенно справедливо полагал, что и прочие питательные вещества могут иметь не меньшее значение. С другой стороны, через его руки опытного эндокринолога прошло огромное количество пациентов, страдающих тучностью, и он все больше и больше стал интересоваться физиологией и этиологией ожирения. Приступив к лабораторному исследованию грызунов, имеющих патологический вес, Лейбл убедился в их коренных отличиях от обычных особей. Оставалось понять причину и выяснить, не распространяется ли она и на людей. Руди подошел к проблеме гораздо серьезнее, чем большинство коллег, ибо видел, что ожирение может сотворить с детьми.
Особенно взволновал его один случай. Прохладным весенним вечером 1977 г. в клинику привели пятилетнего Рэндалла. Мальчику уже поставили диагноз — патологическое ожирение. Лейбл провел обычный осмотр, не обнаружил ничего, выходящего за рамки диагноза, и приступил к уже привычной беседе, произнося дежурные фразы: ничего страшного нет, просто мальчику надо перестать стыдиться своего состояния, регулярно заниматься спортом и есть поменьше сладкого — тогда все образуется. Послушав врача две-три минуты, мать ребенка обожгла его ненавидящим взглядом, схватила сына в охапку и процедила сквозь зубы: «А ну-ка, Рэндалл, пошли отсюда! Этот доктор не нюхал дерьма». Они покинули кабинет, а Руди с глубоким стыдом должен был признать правоту матери. Ни он, ни другие врачи действительно не знают, как лечить ожирение. На сегодняшний день единственные рекомендации — благодушные и бессмысленные клише о режиме питания и физических упражнениях. С неменьшим успехом можно прописать кровопускание или пиявок — пользы будет ровно столько же, и Лейбл прекрасно это осознавал.