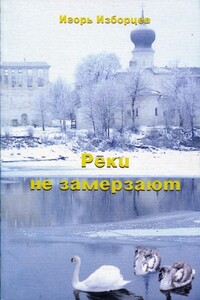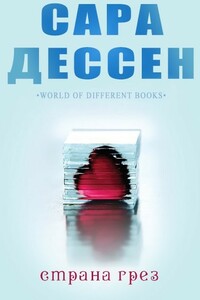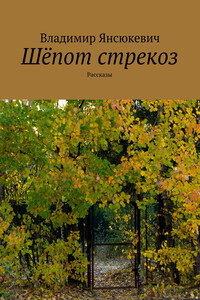Ночной фуникулёр. Часть 1 | страница 27
Но все же… Все же что-то произошло. Иначе, почему именно в этот момент дико зашелся «химическим» кашлем и забился в конвульсиях под одеялом в своей постели Иван Викторович? Почему поднялся и зажег лампадку у иконы Спасителя Семен Ипполитович? Отчего вскочил на своем топчане обычно безчувственный ко всякому ночному шуму Гена Бурдюк и принялся жалобно выкликивать из темноты соседку бабу Шуру. Не дождавшись ответа, он лег и, прежде чем уснуть, долго ворочался. А уснув, впервые за долгие месяцы увидел сон. Настоящий сон, в котором он был прежним, здоровым и немного даже счастливым…
У Гены была очень звучная фамилия — Хлобыщинский! Этакая залихватски бравая. С такой фамилией гусарским поручиком скакать бы на норовистом жеребце в атаку, или с нафабренными усами хлыщом крутиться на балу. Действительно, звучало бы как-то неуместно: сантехник Хлобыщинский? Или же — грузчик Хлобыщинский? Но… звучало: и сантехник, и разнорабочий, и сторож, и дворник, а потом — безработный Хлобыщинский, пропойца Хлобыщинский, бомж Хлобыщинский…
За свои тридцать пять лет Гена прошел все ступени человеческого бытия — вниз конечно, только вниз Он, пожалуй, как немного оперился, так сразу и застучал каблуками по этим нисходящим ступеням и достиг теперь самого дна. Здесь на дне Гена доживал свое оставшееся-последнее. Он был обречен и об этом знали все, кроме него самого (и еще, возможно, его соседки Шуры, которая просто не хотела ничего про это знать). Может быть от того, что не было у него зеркала и потому не мог он увидеть своего раздутого, налитого сине-зеленой жидкостью тела, да так упруго, что кожа казалась остекленевшей и светилась изнутри фиолетовыми разводами? Впрочем, и увидь он себя вдруг — просто не узнал бы: невозможно было опознать в этаком посиневшим бурдюке тридцатипятилетнего человека, его — Гену Хлобыщинского. (За глаза его теперь так и называли — Гена Бурдюк). Но на болезни он давно уже и не жаловался. Возможно, от долгого употребления дурного алкоголя у него просто отключился центр боли, и теперь он пребывал в некотором даже блаженстве; или же это была последняя стадия деградации — кто тут разберет? Во всяком случае, он сам об этом не задумывался и не распространялся.
Рано утром он поднимался со своего топчана, кое-как утвержденного прямо на половых лагах. Досок под ногами не было вовсе, последние из них минувшей зимой сгорели в печи — очень уж холодная была эта зима — и поэтому прямо под ним была голая земля, засыпанная окурками и бытовым мусором. Кроме неудобств от постоянной сырости и холода, был таки один небольшой плюс — можно было не выходя из комнаты справлять малую нужду. Удобно, когда потребности к комфорту бытия напрочь отсутствуют…