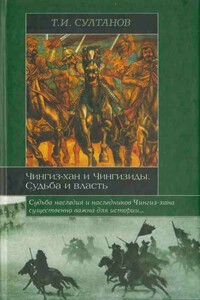Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей | страница 51
В „Сборнике летописей“ Рашид ад-Дина утверждается, что Угедей (правил в 1229–1241 г.) объявил Ширамуна, своего внука, наследником престола и „воспитывал в своей ставке“. По словам Джувайни, когда умер сын Бату, Сартак, (1255–56 г.), Мунке-хан (правил в 1251–1259 г.) отдал приказ, чтобы Баракчин-хатун, старшая из жен Бату, отдавала приказы и „воспитывала“ (несовершеннолетнего) сына Сартака, Улакчи, до тех пор, пока он вырастит и заступит место отца“ [Рашид ад-Дин, т. 2, с. 118; Джувайни, изд., т. 1, с. 223]. О том, какое именно воспитание и обучение получал наследник престола до некоторой степени можно судить на примерах воспитания Газан-хана и Муким-хана.
Газан-хана (правил в 1295–1304), сына Аргун-хана, сына Абага-хана, сына Хулагу-хана, сына Тулуй-хана, сына Чингизхана, с рождения воспитывали как будущего „великого государя“, и с четырех лет он „пребывал в ставке своей бабушки Булуган-хатун и „неотлучно состоял“ при своем деде Абага-хане (правил в 1265–1282 г.). Когда царевичу Газану исполнилось пять лет, Абага-хан поручил его китайскому бахши Яруку, чтобы „он его воспитал и обучил монгольскому и уйгурскому письму, наукам и хорошим их, бахшиев, приемам. В течение пяти лет он превзошел в совершенстве эти предметы, а затем упражнялся в искусстве верховой езды, стрельбы из лука и игре в чов-ган“ [Рашид ад-Дин, т. 3, с. 138–141].
Выше уже упоминалось, что Аштарханид Субхан-Кули-хан (правил в 1680–1702 г.) назначил своим преемником (третьим по счету: первые два наследника престола погибли при жизни хана) своего внука Муким-султана. Когда Мукиму было еще только четыре года, говорится в источнике, его „великий дед“, в целях приобретения учености и великих совершенств „той жемчужиной моря государства и величия, назначил к царевичу совершенных наставников и знаменитых учителей для обучения его религиозным наукам, точным знаниям, искусству письма, верховой езды, стрельбе из лука, военным потехам и другого рода сведениям, необходимым для управления государством, для воспитания благородства и разных руководящих начал энергии и храбрости“ [Мухаммед Юсуф Мунши, с. 130].
Однако здесь необходимо упомянуть об одной важной детали рассматриваемой темы, на которую обратил внимание академик В. В. Бартольд, а именно: как в государстве Тимура, так и в государствах Чингизидов „разницы между воспитанием наследника престола и воспитанием других царевичей не могло быть, так как не было точно установленного порядка престолонаследия; кроме того, государство считалось собственностью всего рода, и отдельные царевичи в своих уделах были почти совершенно самостоятельными правителями; вмешательство главы династии происходило только в тех случаях, когда удельный князь обнаруживал мятежные наклонности или ссорился с другими князьями, или когда область подвергалась явной опасности от дурного управления, от внешних или внутренних врагов“ [Бартольд, т. 2, ч. 2, с. 54].