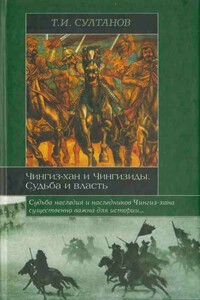Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей | страница 33
Один из стихов Корана гласит: „Скажи: „О Боже, царь царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, от кого пожелаешь…“ [Коран, сура 3, стих 25/26]. Это положение основного источника мусульманского права, согласно которому никакие права по наследству или по завещанию не имеют значения для воли Бога, вручающего власть непосредственно своему избраннику, приводившийся светскими государями в ответ на притязания багдадских халифов (749–1258) еще в XIII в. (Бартольд, т. 6, с. 33, 45), особенно резко было выдвинуто в XV в. при преемниках Тимура.
Тимур завещал престол своему внуку Пир-Мухаммаду, но законного наследника предупредил другой внук Тимура, Халил-Султан. Когда Пир-Мухаммад обратился к нему с вопросом, по какому праву он присвоил себе наследство Тимура, завещанное другому, Халил ответил: „То же самое Высшее Существо, которое вручило власть Тимуру, вручило власть мне“ [Хафиз-и Абру, Зубдат ат-таварих, л. 54а: Бартольд, т. 6, с. 48]. В свою очередь и Шахрух, младший сын Тимура, который в конце концов сделался падишахом, одержав военную победу над Халилом и другими претендентами на верховную власть, также объяснял свой успех исключительно божьей волей.
Такое толкование источника власти вполне понятно. Исход вооруженной борьбы тогда считался выражением божьей воли, поэтому в жизни представление о божьей воле как непосредственном источнике власти государя часто сводилось к признанию права силы. Именно сила делала „божью волю“ осуществимой, и менее могущественный, менее удачливый оказывался исключенным из числа „божьих избранников“. Иными словами, власть, полученная государем непосредственно от Бога, в действительности всегда являлась узурпацией. Схема такой власти может быть выражена следующей формулой: „Держава — от Бога всевышнего, но причина утверждения на престоле — захват, факт завоевания“.
Обратимся теперь к оригинальной по своей формулировке государственной идее хивинского хана-историка Абу-л-Гази (правил в 1643–1663 г.). Идея эта особенно интересна тем, что в ней происхождение верховной власти объясняется не теологическими соображениями, как это обычно в сочинениях других мусульманских историков, а волею народа, который для сохранения порядка в обществе и ради общего блага добровольно отказался от своих суверенных прав в пользу одного человека в лице хана. Вот подлинные слова самого Абу-л-Гази: „Древний народ был благоразумнее, чем народ нынешний. Если бы народ, собравшись воедино, мог убить человека или изгнать грешника или если бы он мог сам возглавить какое-нибудь дело, то почему же он одного человека из своей среды провозгласил падишахом? Посадив его на почетное место в доме, народ отдает ему в руки свою волю“ [Шаджара-йи турк. с. 276]