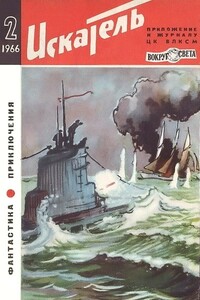За год до победы: Авантюрист из «Комсомолки» | страница 12
Валя Пургин полагал, что хозяйство у Калинина должно быть громоздким, многоплановым, как у всякого парламента, а оно оказалось махоньким, как сухонькие кулачки самого Михаила Ивановича – три или четыре отдела, орденские книжки, грамоты, ордена, какие-то значки, парламентские подарки и бесчисленные письменные приборы.
Система награждения была проста, как задачка для третьеклассника – никаких головоломок. Все головоломки решались в других местах – там шла рубка, летели искры, пахло огнем и порохом, в хозяйство Калинина приходил уже готовый разжеванный материал, который Михаилу Ивановичу только оставалось проглотить и подписать соответствующую бумагу.
«Работа – не бей лежачего», – завистливо подумал Пургин, когда понял, что собой представляет ведомство, в котором с мокрой тряпкой орудовала его мать.
Иногда на столах сотрудников наградного отдела Пургин видел коробки с новенькими орденами, незаполненные наградные книжки, задумчиво вертел их, прикидывал на руке вес, – сотрудники не боялись оставлять документы: все-таки это Кремль, в Кремле посторонних не бывает. Пургин много раз задумывался над тем, что видел, и приходил к выводу, что при всей сложности государственной машины верхняя, командная часть ее очень проста и легка в управлении. И важна не сама технология управления – важно попасть в верхний слой.
Многих людей, чьи снимки украшали первые страницы газет, Пургин встречал «живьем» и удивлялся несовпадению подлинника с копией: когда «живьем», люди эти были совсем другими – часто низкорослыми, малозначительными. «Уж не специально ли товарищ Сталин подбирает таких?» – Пургин вспоминал сухого невзрачного человека в кителе с накладными плечами и оливково-серыми, порчеными оспой щеками и приходил к выводу: «Вполне возможно, что подбирает специально».
Лицо Вали Пургина ничего не выражало. У этого паренька был цепкий ум, птичий глазомер и наблюдательность зверя – он многое понимал, но ничего не говорил, мать это ощущала – сердцем, нутром, нюхом, но не умом и неожиданно начинала плакать: родной сын казался ей чужим.
Мыслимо ли это дело?
Однажды он спрыгнул с трамвая, потеснее прижал к себе книги, чтобы бежать – собирался сдать их в библиотеку, был день сдачи, как услышал за спиной веселое:
– Эй, борец!
Борец – это не к нему, он – не борец, но окликали все-таки его. К Пургину стремительно, будто летя по воздуху, приблизился Попов.
– Не ожидал встретить?
– Честно говоря, нет.
– Теперь понятно, почему ты так набычился. Ты не бойся меня, не бойся, – голос у Попова был мягким, уговаривающим, – дядя бывает страшным, только когда ему нарисуют усы. Чего не звонишь-то?