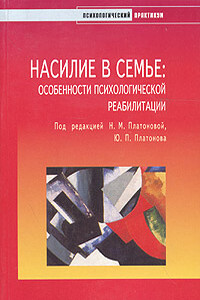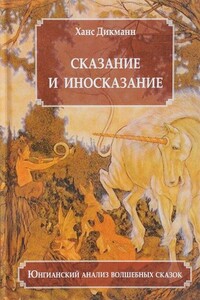Педагогическая психология | страница 101
Конечно, огромную роль в создании художественных образов играют метафоры и сравнения.
Однако ими далеко не исчерпываются возможности создания многозначного контекста в поэзии. Образцом ее высшего достижения является стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может…». Здесь нет традиционного для поэзии мышления образами – образы как таковые вообще отсутствуют. Но литературовед В. Непомнящий, один из тех, кто наиболее тонко чувствует и понимает всю необычность такого явления культуры, как А. С. Пушкин, так пишет об этом стихотворении в своей великолепной книге «Поэзия и судьба»: «Невозможно решить окончательно, что говорит в этих стихах: неслыханное самоотвержение; преодолеваемая, но не сдающаяся боль, обида, ревность; благородное смирение; благодарность за сильное и страстное, но минувшее переживание или горечь не оцененного и потому затухающего чувства». Может быть, именно такая сгущенная, сконцентрированная многозначность, при предельной простоте выражения, и объясняет силу воздействия этих строк и их непереводимость ни на прозу, ни на другой язык. Прав В. Непомнящий – это та простота, за которой стоит истинное понимание мира и идеала, а ни тот ни другой не могут быть плоскими и однозначными.
И наконец, художественная проза также знает приемы нарушения обычной контекстуальной связи, введения многозначности как основной ценности. Всем хорошо знаком стиль Э. Хемингуэя. Кажется, что этот отрывочный, телеграфный стиль поддается имитации, но это впечатление обманчиво. Сам Э. Хемингуэй говорил, что можно опускать что угодно, надо только самому твердо знать, что именно ты опускаешь, лишь такое знание придает тексту необходимую многозначность.
Необходимость и взаимодополнительность обеих стратегий мышления. Между тем в условиях нашей цивилизации все более доминирует однозначно понимаемый контекст.
Во многом такая позиция оправдана. Известно положение Ф. Энгельса, что «коллективный труд и вместе с ним человеческая речь» привели к формированию Человека Мыслящего. Достижения человечества закрепляются и передаются следующим поколениям прежде всего в слове. Сознание, выделяющее человека из животного мира и поднимающее его на высшую ступень интеллектуального и духовного развития, также тесно связано с речью. Отсюда едва ли не инстинктивное восприятие отношений между двумя стратегиями мышления как иерархических, при которых образное мышление занимает второстепенное и подчиненное место. Но такое восприятие ошибочно. Если организация однозначного контекста необходима для взаимопонимания между людьми, анализа и закрепления знания, то организация многозначного контекста столь же необходима для целостного постижения и проникновения в суть внутренних связей между предметами и явлениями. Между тем именно такое постижение лежит в основе любого творчества, без которого был бы невозможен ни технический, ни духовный прогресс, а значит, и не было бы тех достижений, которые необходимо закреплять в слове. Для творческого акта действительность надо воспринимать во всей ее сложности и многогранности, во всем богатстве внутренних взаимосвязей. Творческий акт – это изменение и расширение ранее сложившейся модели за счет включения в нее не учтенных в прошлом связей и отношений. Явление творческого озарения и сводится, по-видимому, к тому, что какие-то компоненты образного контекста без слишком больших потерь удается перевести на чуждый им язык сознания.