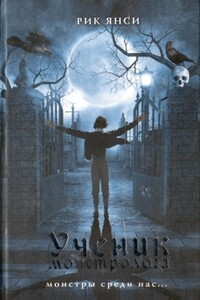Проклятье вендиго | страница 56
Эта тьма тяготила нас больше, чем однообразный пейзаж на протяжении многих миль, пройденных по тяжелой тропе. Наши души немели от нее, как от холода немели наши пальцы на руках и ногах. Угольно-черная, густая, осязаемая тьма смеялась над нашими робкими попытками избавиться от нее и давила на нас с удушающей силой. Я начинал завидовать Джону Чанлеру и его лихорадочному забытью.
И я тревожился за доктора. Даже худшие дни на Харрингтон Лейн, когда он забивался в свою постель и часами оставался в ней, отказываясь от сна и еды, пребывая в такой меланхолии, что мог только дышать, — даже те дни казались яркой весной по сравнению с тем, что он испытывал сейчас. И он переносил эти испытания не ради себя, а ради кого-то другого, что было поразительным открытием для меня, который всегда считал его самым эгоистичным человеком на всем континенте. Его лицо вытянулось, глаза глубоко запали, плащ висел на нем, как на вешалке. Он начинал походить на человека, которого нес.
Я уговаривал его есть и отдыхать, бранил, как родитель ребенка, и напоминал, что он не сможет помочь своему другу, если доведет себя до такого же состояния. Он сносил мои выговоры и редко выходил из себя, исключая один памятный случай, когда он поносил меня более четверти часа. Это могло бы продолжаться и дальше, но Хок проинформировал его, что если он не заткнется, то он всадит ему пулю в затылок.
После того как были съедены последняя галета и последний кусок копченой грудинки, сержант закинул на плечо винтовку и ушел в лес. В тот день мы не двинулись с места. Ближе к сумеркам Хок вернулся — с пустыми руками. Он бросил оружие и свалился около костра, что-то бормоча, беспрестанно вытирая рот тыльной стороной ладони и облизывая губы.
— Ничего, — прошептал он. — Ничего. Никогда такого не видел. Ничего нет на целые мили.
Он поднял глаза к небу.
— Даже ни одной птицы. Ничего. Ничего.
— Ну, у нас все же есть мы, — сказал доктор утешающим тоном, пытаясь поднять нам настроение. — Я имею в виду вариант отряда Доннера[8].
Хок тупо посмотрел на него, открыв рот, а я подумал, что доктор, который прекрасно знал пределы своих возможностей, должно быть, был совсем не в себе, если хотя бы попытался пошутить. Это было так же нелепо, как если бы человек попытался взлететь, махая руками.
Голод стал новым членом нашей компании, гораздо более сильным и энергичным, чем остальные, и он обгладывал наши сухие кости. Когда мы останавливались, то по-настоящему не отдыхали. Мы с Хоком шли в лес и собирали ягоды, выкапывали съедобные корни индейской картошки и зубянки, отрывали головки дождевиков, сдирали кору с орешника гикори, которую потом варили, чтобы размягчить. (Это «рагу из коры», кроме всего прочего, способствует пищеварению, сообщил мне сержант, туземцы используют его для лечения поноса и венерических заболеваний.) Мы также собирали волчью лапу — вечнозеленый мох с густыми игловидными листочками, в изобилии росший на лесной подстилке; Хок его варил, делая что-то вроде травяного чая. Он был едким и горьким на вкус — доктор выплюнул свой первый глоток, — но Хок продолжал его собирать. Споры мха были очень горючи, и он очень любил бросать их в костер и любоваться, как они вспыхивают горячим белым пламенем.