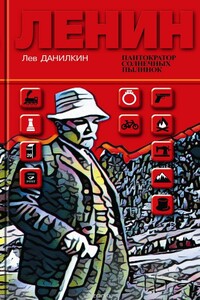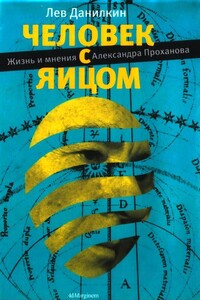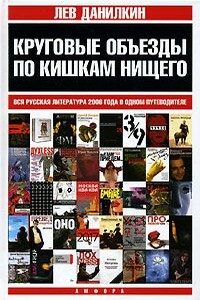Юрий Гагарин | страница 32
Источник, о котором мы подробно расскажем далее, предполагает, что рано проявившиеся лидерские качества Юрия Гагарина, возможно, связаны с тем, что на протяжении двух-трех лет он, по сути, был старшим мужчиной в семье — когда Валентин был в плену, а отец жил скорее в Гжатске, чем в Клушине (5). Дело в том, что после изгнания оккупантов Алексея Ивановича, хромого и страдающего язвой, тут же призвали в армию, хотя бы и нестроевым — и он в 1943–1945 годах жил отдельно от семьи.
«…Назначенный военным комендантом Гжатска капитан А. В. Третьяк получил указание всячески содействовать местным органам власти в решении проблем, связанных с восстановлением города и нормальной жизни в нем. Начинали с расчистки руин, а дальнейшая работа продвигалась медленно из-за отсутствия квалифицированных каменщиков, плотников, электриков, слесарей. Необходимо было срочно восстановить здание госпиталя — его гитлеровцы взорвали, не успев даже эвакуировать оттуда своих раненых солдат. После выхода в свет Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации“ дела пошли быстрее. Постановление давало полномочия военной администрации привлекать сельских жителей для работ на ответственных объектах. Мастер на все руки, плотник, каменщик и слесарь Алексей Иванович Гагарин вновь оказался востребован, на сей раз в городе Гжатске. Впервые за много лет он покинул семью и дом родной, чтобы употребить свое умение на решение важной государственной задачи.
В госпитале работ по плотницкой части оказалось выше крыши. Гагарин трудился усердно, чем заслужил к себе уважение со стороны начальства. По завершении работ на объекте бригаду перебросили на другую стройку. Возможно, Алексея Ивановича оставили при госпитале. <…> Он попал в военный госпиталь в Гжатск, да так и остался в нем служить нестроевым. И служил и лечился одновременно» (6).
Помимо работы в военном госпитале отец — есть и такие версии — «сторожил складские бункера. Они остались после воинских частей в лесу. Юра жил еще в Клушине с матерью, а отцу часто приносил провизию» (7).
«9 марта, в Юрин день рождения, был ему сделан самый желанный подарок: возобновились занятия в школе» (8). Понятно, однако, что то были не вполне формализованные занятия — скорее, по-видимому, кружок крестьянских детей, сложившийся вокруг учительницы начальных классов, Ксении Герасимовны Филипповой. Из немногих оставшихся мемуаров складывается картина в духе соцреалистических жанровых сценок — «Дети войны». Деревня Клушино, единственная из двух уцелевших после боев изб. Крохотная, размером с номер в типовой парижской гостинице, комната; нетопленая — нет дров — русская печь; чуть не на головах друг у друга сидят маленькие дети, закутанные во что попало; изо рта учительницы идет пар; вместо тетрадей — обрывки газет, немецких листовок, обоев, бумага для упаковки бандеролей; букварей нет, и гагаринский класс вынужден учиться азам грамоты по оставленному солдатами в сельсовете «Боевому уставу пехоты»; когда учительница объявляет, что урок русского языка закончен и следующим будет арифметика, ученики достают из карманов стреляные автоматные гильзы; это их счетные палочки.