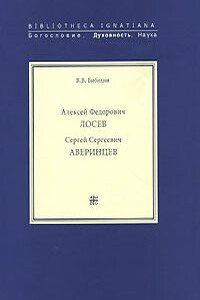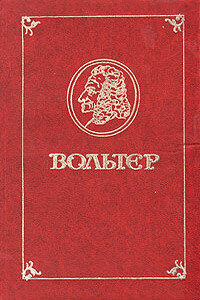Очерки античного символизма и мифологии | страница 63
В своем специальном исследовании «Античный космос и современная наука» я пытался раскрыть пластическую сущность античного миропредставления, и здесь я позволю себе лишь отослать читателя к этому сочинению. Там я анализирую центральный для античности платонический космос и вскрываю его диалектическую и скульптурную сущность. Этот космос — вечно юное, живое тело. Он — конечен, имеет определенную пространственную границу. Пространство и время его не имеют ничего общего с нью–тонианской однородностью. Пространство и время здесь расширяемы и сжимаемы. Они — неоднородны, имеют разную уплотненность; и кроме того, эта уплотненность расположена по определенным степеням, так что пространство получает некий рисунок — вернее, становится им. Отдельные сферы космоса, заполненные одной из четырех стихий, суть разные степени сгущения пространства. Космос этот предполагает с диалектической необходимостью «всеобщую симпатию» и связанную с ней астрологию, полную взаимопроникаемость и взаимопревращаемость элементов, или алхимию, и — всемогущую силу мифического имени, или магию. Такой космос можно сравнивать с чем угодно, но только не с новоевропейской вселенной, которая есть абсолютно темное, абсолютно однородное и неподвижное, не имеющее никакой реальной границы и очертания пространство, в котором затеряна и растеряна аморфная пыль бесконечных миров–атомов.
27. Философия. Однако самое, быть может, замечательное выражение основной скульптурно–световой и осязательно–пластической интуиции античности заключено в ее философии; и тут мы вплотную подходим к разрешению главного вопроса нашего очерка, к вопросу о происхождении древнегреческих теорий символизма.
Уже и сейчас нам ясно, что принципиально не может быть у греков такой философии, которая не была бы эстетикой, и такой эстетики, которая не была бы в то же время философией, и именно «первой философиейупотребляя термин Аристотеля. Бытие для греков есть храм, или дворец, наполненный статуями: как же античная онтология может не быть эстетикой? И какая еще возможна для грека онтология, если построено бытие (и в нем мир и человек) как божественное изваяние, как мраморная статуя, как божественно–прекрасное и вечно–юное, цветущее тело? Там, где бытие есть нечто отдельное от статуар–ности, там, где быть — не значит быть изваянием, — еще возможно разделение онтологии и эстетики. Но это невозможно в Греции. И вот почему Плотин мог бы и не писать своих двух трактатов о красоте, и мы все равно знали бы с той же точностью его эстетику из его общей эйдологии, а эстетику Аристотеля меньше всего можно понять из его формальной «Поэтики», если не привлекать еще «Метафизики», которая на первый взгляд как раз ничего эстетического в себе не содержит. Эта печать статуарности и оптической* скульптурной телесности лежит на всех самых отвлеченных системах античной философии; и мы чувствуем, как не может успокоиться ни мысль Платона, ни мысль Аристотеля, ни мысль Плотина и Прокла, пока не дойдет до статуи, до светового символа, до мифа. В основе этой философии лежит скульптурная мифология. Ее задача, как философии, — уразумение этой мифологии в разуме. И она умирает тотчас же после того, как разумно и диалектически раскрывается в ней сущность первоначальной скульптурной мифологии. Миф питает философию, и скульптурно–осязательный материал отдает себя на волю логоса. Иссякает и исчерпывается этот опыт — кончается и умирает философия.