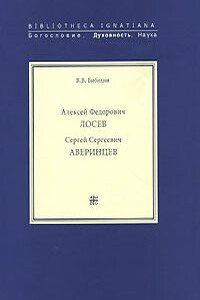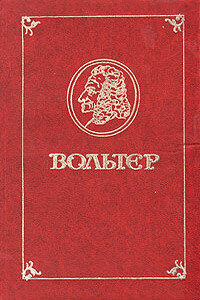борьбы, и мы видим тут Антигону во всей красоте ее молодой натуры. Упрекали Софокла в том, что трагедия Креонта не вполне удачна потому, что она связана
случайно с любовью его сына к Антигоне. Но, мне кажется, это «случайность» — с точки зрения Шекспира. Для Софокла же и вообще для античной трагедии это есть не больше как обыкновенная трагическая пластика, единственно «классическое» понимание трагического стиля.
Шеллинг пишет (и тут видно, как не новы рассуждения Шпенглера): «Кто, особенно не имея наглядного знания о музыке, захочет все–таки составить себе представление об отношении ритма и ритмической гармонии, то пусть сравнит мысленно вещь, примерно, Софокла с вещью Шекспира. Произведение Софокла имеет чистый ритм. Тут изображено только необходимое, и в нем нет никакой чрезмерной широты. Шекспир, напротив того, есть величайший гармонист, мастер драматического
контрапункта. Это — не простой ритм единственного происшествия. Это есть одновременно все его сопровождение и с разных сторон идущее его преломление, которое через него нам изображается. Сравните, напр., Эдипа и Лира. Там — не что иное, как чистая мелодия происшествия, в то время, как здесь судьбе отверженного своими дочерьми Лира противопоставлена история сына, отверженного своим отцом, и так каждому отдельному моменту целого — снова другой момент, которым он сопровождается и отражается».
[111]Быть может, еще ярче сказывается основная античная интуиция на характере древнегреческой музыки. Если западная драма ни в .каком случае не может быть помещаема в один отдел с драмой античной, то музыка древних есть нечто уже совсем несоизмеримое с музыкой западной. При нашей обычной, ходячей «классификации» искусств, где мы распределяем искусства самым внешним и несущественным образом, т. е. по роду материала, из которого сделано произведение, мы должны стать совершенно в тупик перед тем явлением, которое именуется греческой музыкой. Уже о Пасторальной симфонии Бетховена можно сказать, что она настолько же близка к ландшафтам Рембрандта, насколько к искусству Палестрины, а футуризм и Пикассо почти ничего не имеют общего с бытопой и реалистической живописью старых времен. То же надо сказать и о музыке греков. Она гораздо ближе к Фидию, чем к Баху и Бетховену. Грек и здесь продолжает как бы ощупывать статую, хотя, казалось бы, столь бестелесное искусство, как музыка, и очень мало дает к этому оснований. Я отмечу здесь две–три характерных черты.