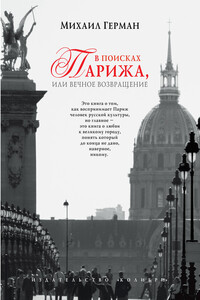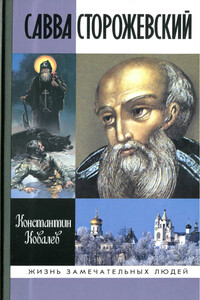Давид | страница 27
Маленькие города Умбрии и Лациума, в которых путешественники почти не задерживались, мелькали перед Давидом, как страницы быстро перелистываемого альбома. И он и спутники его устали и хотели скорее добраться до цели путешествия. Когда под колесами мальпоста загрохотали древние камни Фламиниевой дороги и купол: Святого Петра — традиционный, всем ведомый знак близости Рима — блеснул на горизонте, Давид испытал чувство, похожее на счастье. Начиналась пора настоящего ученичества. В этом городе он должен стать живописцем, а не просто обладателем почетной премии.
VIII
В роскошном и пыльном салоне виллы Боргезе стояла сонная тишина. Ее нарушал только яростный скрип карандаша: Луи Давид рисовал торс мраморного фавна. Он был один, никто ему не мешал, впереди долгие часы работы. Давид приходил сюда ранним утром, когда любители искусства еще не появлялись в залах. Он привык к этой комнате и забывал, что находится в одном из знаменитейших музеев Рима. Бесценные статуи у стен казались старыми знакомыми.
Работа шла с трудом. Давид вспоминал нелестную для себя пословицу: «Наполовину ученый — двойной дурень». Сейчас он видел лишь недостатки академического образования и особенно убогость и узость своих парижских вкусов.
Твердо решив работать как начинающий школяр, Давид не изменил этому решению. Он быстро убедился в своей беспомощности: рука привыкла к бойкому изяществу линий, из-под карандаша выходили фигуры и головы, подобные образам Буше или персонажам его собственных конкурсных картин. Давид был безжалостен к себе, он почти отказался от живописи и изо дня в день рисовал со статуй и рельефов. Древность, как и раньше, не согревала его душу, но он понимал, что именно спокойное совершенство античности способно отучить его от прежних грехов.
В римских мраморах Давида увлекала чистота форм, не искаженная манерностью и желанием подогнать природу под вкус художника. Зрение древних мастеров не было испорчено образцами, ничто не стойло между художником и натурой. Никакого кокетства, никакого — стремления поразить мастерством, эффектной линией, смелостью резца. Этой простоты очень не хватало Давиду. Как жестокий и неумолимый страж, он подкарауливал малейшие промахи собственного карандаша, малейшие уступки дурному вкусу, желанию блеснуть. Лихорадочное нетерпение терзало его, и единственным лекарством была работа, спокойная, усердная, методическая.
Точность контура — как трудно ее добиться! Ничтожная ошибка — и линия мертвеет, становится просто чертой, черным штрихом на белой бумаге. Но стоит отыскать ее истинное положение, и линия волшебным образом преображается: она отрывает, фигуру от фона, дает объем, пространство, движение; натура перестает быть непонятной, она открывает взгляду свои большие и маленькие тайны. Тогда приходит радость познания, открытия, удачи.