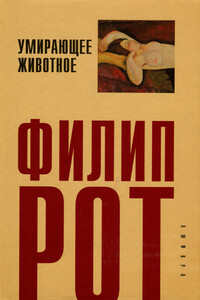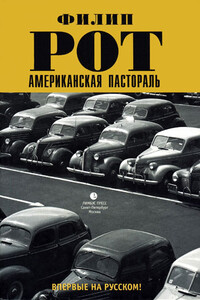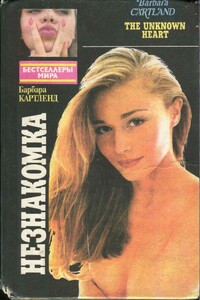Профессор Желания | страница 94
И, когда я излагаю эту пламенную обличительную речь своему психоаналитику, он отвечает: «Значит, она про вас сплетничает. Ну и не обращайте внимания». Всего десять слов, но они буквально переворачивают меня с головы на ноги: мне вдруг становится ясно, что неврастеник и идиот — это я! И вдобавок брюзга. А еще придира. Ничем не интересующийся, ничем не увлеченный, не имеющий ни единого друга. Только и знающий, что плодить новых и новых врагов. Шевные письма, адресованные Идеальной Паре, — вот и все, что мне удалось сочинить с тех пор, как я вернулся на Восточное побережье, все, на что мне хватило собранности, упорства, да и мозгов. Долгими вечерами я писал и переписывал каждое из них, работая над стилем, экспрессией, тональностью и модальностью… А рукопись моей книги о Чехове так и лежала нетронутой. Представьте себе: письма с множеством черновых вариантов! И ради чего? Все пустое! Нет, доктор, что-то со мной не так. Я отбиваюсь от Уолли, я сражаюсь с Дебби, я ухватываюсь за спасительную соломинку психоаналитического сеанса, но как же мне выйти на тропу, ступая по которой я научусь называть ничтожное ничтожным и не путать его ни с тем, что я есть, ни с тем, чем мне, надеюсь, суждено стать?
Как ни странно, стычка с Шёнбруннами помогает мне завязать самую настоящую дружбу с Баумгартеном, которого я до тех пор не больно-то замечал, хотя на самом деле в этом, конечно же, нет ничего странного, если принять в расчет мои всегдашние интересы, которым теперь предстоит по-настоящему разгореться в новой, только начатой мною жизни. Следуя предписанию доктора Клингера, я прерываю переписку с Шёнбруннами, хотя гневные пассажи (убийственные бутады!) продолжают зарождаться и греметь у меня в мозгу, особенно по утрам, за рулем, когда я еду в университет, и вот однажды, повинуясь вроде бы безобидному порыву, я притормаживаю у здания, в котором находится кабинет Баумгартена, захожу к поэту и предлагаю ему выпить кофе. А уже в ближайшее воскресенье вечером, возвратясь домой после визита к отцу (визита, нисколько не избавившего меня от безысходного одиночества), я ставлю на огонь кастрюльку с размороженной маминой стряпней (это последний из заготовленных ею для меня контейнеров) и звоню Баумгартену с предложением разделить со мной вечернюю трапезу.
Вскоре мы уже встречаемся раз в неделю за ужином в маленьком венгерском ресторанчике на верхнем Бродвее; каждый из нас живет неподалеку. Если вспомнить о желанных мне людях, которых я, приникая к зеркалу в ванной, призывал в первые месяцы своего пребывания в Нью — Йорке (призывал, заранее оплакивая все и вся, кроме той единственной, кому было суждено уйти на самом деле), то Баумгартен был столь же далек от этого идеала, как Неугомонный Уолли. Но, с другой стороны, эти анонимные и заочные поиски желанного или, вернее, желанной могли затянуться навеки, потому что на самом деле я уже однажды нашел ее: нашел, обрел и утратил, хуже того, собственноручно уничтожил, запустив разрушительный механизм, заставивший меня бросать все новые и новые вызовы — включая погибельный! — той, кого я некогда отыскал и признал единственно желанной. Да, я тосковал по Элен! Я